
Бесплатный фрагмент - Бела + Макс
Новогодний роман
До свиданья, мой друг, до свиданья…
Не грусти и не печаль бровей, —
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.
С. Есенин, 1925.
.
Ко всем прочим неприятностям погода с наступлением темноты менялась на глазах.
Снег, как по команде, неожиданно повалил какими-то неправдоподобно-большими хлопьями. Именно повалил, а не пошёл.
Потом (как нельзя, кстати) прозвучал осторожный вопрос жены:
— Хочешь, я сяду за руль?..
Дальний свет фар нашей «Лады-Самары» практически натыкался на сплошную белую завесу впереди: видимость нулевая. А в салоне автомобиля — парадокс! — стало уютнее. Уютнее и теплее.
Прежняя какофония звуков, извергаемых динамиками радиоприемника, больше не раздражала, а, наоборот, убаюкивала. Беспечный полушепот ведущего таинственно вещал о разных пикантных обстоятельствах, которые подстерегают обывателя накануне праздников.
До Нового года — сутки с небольшим!
Счастливчики из радиослушателей, прорвавшиеся по телефону в живой эфир, перепуганными от восторга голосами, взахлёб рассказывали свои смешные истории. Звучали бесконечные приветы и пожелания Леночкам и Славикам, Ирочкам и Гарикам, и всем, всем, всем! Милой бестолковщине предпраздничной суеты оставалось только позавидовать. Позавидовать и заразиться ею (если получится).
Любопытно: если на одну чашу весов бросить нашу хроническую усталость, вечные проблемы и вечные, не имеющие ответов, вопросы, а на другую — новогоднее ожидание чуда, когда Кремлёвские куранты пробьют полночь, что (интересно) перевесит?
На мгновение представилось, как одиноко в ночи движется (нет, скорее — несётся) по совершенно пустой трассе наш автомобиль, оставляя позади километр за километром, несмотря на пургу, и несмотря ни на что.
Со стороны это так, наверное, и выглядело. (N.B: между иллюзией и реальностью — пропасть.)
Дорожное полотно представляло собой слой жижи из мокрого снега и воды. Под этим слоем то и дело обнаруживались участки гололеда. И тогда автомобиль начинало носить из стороны в сторону. Чтобы удержать его на дороге, приходилось снова и снова утапливать педаль газа, увеличивая скорость, и, тем самым, выравнивать движение (пока это удавалось). И вместо того, чтобы (расслабившись) полулежать сейчас в кресле (а это, в тот момент, мне требовалось больше всего), приходилось, сжав одной рукой руль, другой — рычаг коробки передач, ждать очередного участка гололеда.
Жена, несмотря на внешнее спокойствие, тоже вся в напряжении.
И вместо того, чтобы без умолку говорить (болтать о чем угодно! только бы не молчать), сидела неподвижно. Только однажды, когда я (в который раз) наощупь нашёл на панели валидол и откусил часть таблетки, спросила сдержанно-ровно (по крайней мере, старалась, чтобы прозвучало это нейтрально, без эмоций):
— Хочешь, я сяду за руль?..
С какого перепуга — не знаю, но — словно голосом Достоевского — прозвучала цитата из его «Бесов»: «…сцена вдруг переменяется, и наступает какой-то „Праздник жизни“, на котором поют даже насекомые, является черепаха с какими-то латинскими сакраментальными словами, и даже, если припомню, пропел о чём-то один минерал, то есть предмет уже вовсе неодушевлённый…» И с каким это смыслом? С какой подоплёкой?
Будем считать, что без всяких смыслов и без всяких подоплёк.
Стрелки датчиков на приборной доске покачивались влево-вправо, влево-вправо…
Ярко-зеленые цифры на электронных часах отсчитывали секунды: 19.44.57, 19.44.58, 19.44.59 и вот, наконец, ровно — 19.45.00.
Нет, чтобы спросить просто:
— Макс! Ты, вообще-то, как? В состоянии проехать эти несчастные сто сорок четыре километра до Бобруйска? Или нет? Если нет — скажи.
Что помешало жене сказать так? Или примерно так?
Я, возможно, ответил бы:
— Погодка сегодня — что надо! Самое время тебе немного порулить.
Показать мастер-класс вождения автомобилем до первого столба.
Ну, посмеялись бы, побалагурили. Отвели душу. А вместо всего этого жена — робко, чуть слышно:
— ХОЧЕШЬ, Я СЯДУ ЗА РУЛЬ?
Что я мог ответить?
Пятнадцати минут не прошло, как мы выехали из Минска. И вот сейчас мне предлагалось посадить Белу на своё место — великолепная идея: давай, дорогая, крути баранку смело! жми на полную катушку!
Время на часах — 19.45.
Я заметил, как (заворожено) смотрит она то вперед, через лобовое стекло, на дорогу, то — на меня.
Что творилось у неё в голове, какие крутились мыслишки — тоже можно было догадаться. Машина — всё равно, что корова на льду. Однако мы ещё как-то (с горем пополам) едем. Только… долго ли выдюжим при движении в таком режиме? Может быть, через секунду-другую нас ждёт (не дождётся) кювет? Или железобетонные столбики ограждения, окрашенные люминесцентными светящимися красками? Или ещё что-то.
Что? Что ещё? Да, всё, что угодно.
Он (то есть — я) ещё как-то держится. Заметно по лицу — бледен, глаза провалились в глазницы, Ему не очень хорошо, но Он крепится. Пытается также не подать вида, что особой уверенности в благополучном исходе их (Его и Её) — на ночь глядя! — сто сорока четырех километрового путешествия не много: не сейчас, так через какое-то время что-то, да произойдет.
А, может, пронесет?..
Первоначально эта поездка в Бобруйск, к нашим деткам, которых мы два месяца назад оставили под присмотром бабы и деда, планировалась на двадцать седьмое декабря, на субботу.
По телефону мы, чуть ли не ежедневно, клятвенно обещали Миланке и Мирославе, что обязательно выкроем время (на поездку, туда и обратно). Что непременно приедем и (возможно) заберём их с собой. И в течение двух последних месяцев поездка по разным причинам откладывалась. Было отвратительное ощущение, что мы, непутёвые родители, обманывали наших девчонок-очаровашек, которые при очередном телефонном общении, конечно, верили: да, завтра папа с мамой приедут! а как иначе? они всенепременно примчатся на всех парах.
Получалось так, что мы (в течении двух последних месяцев) с каждым разом всё искуснее и всё изощреннее лгали, наводя тень на плетень: да, сегодня не получилось, а вот, завтра… А что было завтра? Завтра мы продолжали жить другими, более важными проблемами, которые следовало (не откладывая в долгий ящик) решать.
Время на часах прежнее — 19.45! И это не поломка в электронике. Часы показывали верно.
Сколько же информации могут вместить в себя сотые, тысячные, миллионные доли одной-единственной секунды? Дерзай Макс: блесни эрудицией!
Жена по-прежнему спокойна. Спокойна внешне. А внутренне — в её организме, содержащем свыше трехсот миллиардов клеточек (впрочем, как и в моем), нет ни одной клетки, которая не находилась бы в запредельном режиме работы. Ни одной.
— Если дорога так ужасна, — сказала Бела, делая акцент на слове «дорога», — не поздно ещё вернуться обратно.
Другими словами: для нас не существует других опасностей, кроме тех, что подразумеваются под словом «дорога». Как будто не существует.
Я в ответ не произнес ни слова. Мой собственный язык перестал повиноваться мне. Я хотел что-то сказать, но ничего не выходило. Нелепое ощущение: хотеть и не мочь.
Да, повернуть назад не поздно: на рекорд мы не идем, подвига нашего, если таковой совершится, никто не оценит. Зрителей (наблюдателей) нет. Ни поблизости, ни на расстоянии. Мы есть только для самих себя. Больше не для кого.
Атмосфера в салоне нашего авто напряжена настолько, что кажется — сейчас начнут искрить электрические разрядики в воздухе: там, здесь, тут… везде. И становится грустно от очевидного: так продолжаться долго не может. НЕ-МО-ЖЕТ!
Запахом корвалола и сигаретного дыма — адская смесь! — пропиталось в салоне буквально всё: кресла, половое покрытие, наш багаж, и, конечно, мы сами.
Кажется, что за нашей машиной (вместо выхлопных газов) просто не может не тянуться этот корвалольно-сигаретный шлейф.
Надо было думать о чём-нибудь приятном.
О приятном не думалось. В голову лезла всякая чушь. На ум приходили медицинские словечки типа тахикардии, аритмии, декомпенсации.
На «декомпенсации» меня зациклило. Где я слышал это словечко? Где я мог его слышать? Вспомнил. О декомпенсации Бела рассказывала в связи со смертью Саши, мужа её сестры. Это было с полгода назад. Нет, это было год назад. Декомпенсация — это когда резко ухудшается кровообращение, сердечко работает всё хуже и хуже, человек задыхается, ему нечем дышать.
Отличное занятие я нашёл себе: примерять недомогания, как одежду! как, например, костюм, пальто, шляпу.
Умер Саша скоропостижно.
Человеком он был преуспевающим, жил комфортнее комфортного, без видимых проблем, и вдруг — приступ. На работе, в кабинете. «Скорая», капельницы, переполох. Родственники подняли на ноги всю Алма-Ату, вызвонили и доставили всех профессоров, каких только смогли доставить. Профессора перепробовали все мыслимые и немыслимые лекарства — всё тщетно, кризис не отступал.
Сутки не могли сбить давление.
И не выдержало сердце.
Саше было сорок три года.
Сестра Белы осталась с тремя детьми. Младшего только-только поздравили с днём рождения (два годика ему «стукнуло»). По этому поводу закатили пир на весь мiр. Со смехом вспоминали — когда она ходила беременная, родственники недоумевали и отговаривали: в твои-то годы — не поздно? Она отвечала: а кто определил это самое «поздно»?
Рассказывали, что Саша умирал в страшных мучениях. Большую часть последних суток он провёл в сознании, отключаясь лишь ненадолго. И, видимо, хорошо сознавал, что происходит, и каков возможен итог. Говорить он — не говорил, только внимательно слушал. Его глаза устремлялись на каждого, кто подходил к постели…
Саша запомнился человеком жизнерадостным, розовощёким. Он запомнился человеком (и это главное) не страдающим от недостатка здоровья.
Поставить меня и его рядом: я, в сравнении с ним — покойник.
— Человек — саморегулирующаяся и самонастраивающаяся система, — сказал я. — Разве не так?
— Так-так! — радостно согласился бородатый терапевт.
К этому очередному исцелителю, минской знаменитости, привела меня Бела. Привела, чтобы меня лечили. А я бросился разговоры разговаривать.
— Так-так! — ещё раз подтвердил он. — Человек — это нечто уникальное.
Примером уникальности человека стала Сашина скоропостижная смерть: почему это случилось?
Я продолжал:
— Саша был здоров, как бык. Потом был приступ. Потом сутки организм сопротивлялся лекарствам, которые в обычной практике просто не могли не стабилизировать состояние, каким бы отчаянно плохим оно не было.
Доктор путано объяснил это тем, что механизмы саморазрушения, применительно к живым организмам, невозможны. Другими словами, дал понять — тема эта простая и не простая. Двумя фразами не обойтись. И разводить философию сейчас не ко времени. В коридоре томятся десяток пациентов, ожидающих своей очереди. Дело врача — лечить, дело больного — лечиться, а не разводить дискуссии вокруг да около.
Я полюбопытствовал:
— А как быть с собаками, которые жертвуют собой ради жизни хозяина? Не происходит ли что-то подобное и с человеком, когда кора головного мозга (в ситуации критической) даёт команду на активизацию программы самоуничтожения?
Бородатый терапевт дал понять, что здесь не надо торопиться с ответом. А ещё лучше — не зацикливаться на подобных вопросах, и, вообще, выкинуть подобные мысли из головы, как мусор…
«Дворники» заскользили по лобовому стеклу — влево-вправо, вправо-влево! — так стремительно часто, что я вообще перестал замечать их: будто их нет вовсе, а есть только чистое, без снега, лобовое стекло и сплошной белый занавес впереди.
Может быть, это начало приступа? Или уже сам приступ.
Выпить, немедля, что-нибудь? Что? Корвалол? Анаприлин? Адельфан? Или ещё что-нибудь? Или попробовать не пускаться во все тяжкие по пустякам? Неприятности-то — тьфу, яйца выеденного не стоят.
Может, попытаться отвлечься, расслабиться и думать о чём угодно, только не прислушиваться к изменениям, которые происходят у тебя где-то внутри?
Мысли, лихорадочные и тревожные, продолжали метаться точно в темной комнате, заставленной невидимыми предметами-препятствиями: что? повторяется суббота, двадцать седьмое декабря?
Судя по признакам, да, повторяется.
Двадцать седьмое декабря, стало для нас (для меня и для Белы) днем знаковым.
Из самых удаленных тайничков памяти вдруг извлеклась хемингуэевская «Смерть после полудня» и перед глазами проплыло пронзительное: «Целью боя был заключительный удар шпагой, смертельная схватка человека с быком, „момент истины“, как его называют испанцы. И весь ход боя служил лишь подготовкой к этому моменту…»
Двадцать седьмое декабря стало для нас днем «момента истины», когда обозначилось «кто есть кто» в этой метафорической корриде.
Декабрь, день двадцать седьмой.
Я проснулся, когда было ещё темным-темно.
За окном — как в новогодней сказке! — завывал ветер. Пришлось наощупь искать кнопку включения ночника, которая вечно терялась над изголовьем. Когда комнату наполнил мягкий свет, первое, что попалось на глаза — это будильник. И на будильнике — 6.07 (день и месяц моего рождения, между прочим; если бы на циферблате была секундная стрелка, она могла бы ещё показать и час моего появления на свет — 12.00).
Я проснулся с ощущением бодрости. Словно и не было в моей жизни двух последних кошмарных месяцев. Взглянул в сторону жены: из-под одеяла виднелся хвостик её каштановых волос.
Затем я выключил ночник и тут же уснул. Уснул, как младенец.
Такое впечатление, что в голове моей случилось нечто вроде короткого замыкания. И мозги мгновенно перенастроились, перепрограммировались: доминирующая черная окраска прежнего мiровосприятия моментально исчезла, и новое видение мiра, пронзившее всё мое существо, приятно удивило яркостью и многоцветьем спектральных тонов и полутонов: произошло, почти что, чудо из чудес.
А должно было произойти другое, ставшее уже привычным: я открываю глаза и никак не могу понять, где нахожусь — что это за подозрительные апартаменты, в которых я оказался?
И только когда вижу жену, спящую рядышком, когда узнаю замысловатые завалы из книг на не моём письменном столе, я начинаю приходить в себя: мы — в Минске, а эти «царские покои» нам сдали за пятьдесят долларов в месяц.
Двадцать седьмого декабря, в субботу, подобных страшилок не случилось.
Второй раз, и уже окончательно, я проснулся, когда солнышко светило вовсю.
Индусы считают иллюзией, что жизнь заканчивается в 40 лет: человек в таком возрасте — это подросток, который только открывает дверь в мiр. (Значит, никогда не поздно начать жить: так, словно это твой первый день в оставшейся жизни?)
Бела в халате до пят (и без ничего под ним) ходила, как привидение, туда-сюда. Было видно, что она досыпает на ходу: то она не могла найти серёжки, которые сняла перед сном, то куда-то запропастилась её косметичка.
Из белой пузатой чашки, стоящей на подоконнике рядом со стопкой свежих газет, по комнате распространялся запах кофе. И чашка предназначалась мне. Кому же ещё?
Мне по-прежнему было легко, светло, хорошо…
Нам не было никакого смысла на выходные, на двадцать восьмое и двадцать девятое декабря (на целых два дня) оставаться в Минске, чтобы в понедельник, тридцатого декабря, появиться в редакции и коротать там время перекурами и досужими разговорами.
Поэтому субботу мы и определили оптимальным днем отъезда в Бобруйск и оптимальным днем начала новогодних каникул.
Свой блок материалов, касающихся политики, я сдал весь, без остатка, и они давно были готовы к верстке. Никаких других дел — ни срочных, ни обычных, — у нас в Минске не оставалось.
Мы были свободны. Значит, еще один год из жизни — вон. Значит, позади все мыслимые и немыслимые сюрпризы, уготованные нам этим годом.
Хотелось думать — все события, которые могли произойти, уже произошли.
Всё, что могло совершиться — уже совершилось.
Я устроился у окна, и пил кофе.
«Лада-Самара» стояла там же, где я вчера её припарковал: колёса не сняли, дворники на месте, всё в полном порядке. А как искрились на солнце промерзшие стекла нашего «шикарного лимузина» — красота!
Бела просидела перед зеркалом дольше обычного: никак не могла решить, каким нарядом сегодня себя нарядить.
Своим гардеробом мы не занимались давно, точнее — с Алма-Аты. При нулевых доходах, какие могут быть обновы? Не до жиру — быть бы живу. Ещё немного и нас (в качестве ретро-образцов) можно будет выставлять в витрине весёленького такого магазинчика с весёленькой вывеской из неоновых букв: «Живой антиквариат», где добрая треть букв то потухнет, то погаснет, и потому издалека она видится не иначе, как «Жив… анти…».
Картинка эта не просто нарисовалась перед глазами и осталась картинкой. Она точно ожила: была комичной иллюзией смешливого живописца, а стала реальностью. И можно было тотчас распахнуть дверь и войти в эту лавку древностей, пропитанную насквозь запахами пыли и нафталина.

И все-таки (как бы там ни было) приближение Нового года ощущалось.
И ощущалось приближение чуда: вот часы пробьют полночь и что-то волшебное должно произойти (произойдет или не произойдет — ещё вопрос, но в подсознании засело крепко — должно).
А если эту самую установочку на чудо взять и удалить? Из памяти. Из сознания. Из подсознания. (Поместив, на всякий пожарный, в формалин: вдруг нам без неё… ну, просто никак?) Что будет тогда? Ночь, наполненная тайными надеждами, превратится в самую обычную?
Нет, пожалуй, оставим всё, как есть. Пусть будет, как всегда. Чтобы никак не пострадало знакомое с детства ожидание праздника.
Let It Be.
Рядом с пузатой чашкой на подоконнике лежала стопка местных газет.
Кому, как не Беле, было знать о моей забавной страсти (одной из) ко всякого рода дурацким и не дурацким историям, которые я, развлекая себя и жену, обнаруживал в любом печатном издании (будь-то «Пионерская правда» или солидный еженедельник).
Вот жена и позаботилась сделать мне приятное, положив стопочку свежей прессы: читай, Макс, веселись! только не хандри.
В любой газетёнке обязательно сыщется (а я-то здесь сыщик со стажем) незатейливая (затейливая) история, которую тут же можно будет разложить по косточкам, смоделировав десяток причин и следствий происшедшего, отличных от считающегося правильным (непреложным, общепринятым).
Бела всегда удивлялась: из каких-таких тайников я извлекаю эти версии?
Я всегда говорил (и говорю), что никаких тайников нет. Всё — перед нами. Бери и пользуйся. Пользуйся на здоровье. Технологический детерминизм: как аукнется — так и откликнется.
Будь я художником, я бы живописал вот что: Он (как в то утро я) стоит у окна, изображённый со спины; Его лица не видно; не очень ясен и Его возраст; на подоконнике — белая чашка с дымящимся кофе и рядом с чашкой — стопка газет; за окном — солнечно, морозно и ослепительно бело от снега; в комнате — тепло и уютно, краски — мягкие, пастельные.
Или немного иначе: Он стоит не один, сзади Его обнимает за плечи (повисла на плечах) Она, в таком же (предположим), как у Белы, просвечивающемся насквозь халатике, под которым ничего не надето. Её лица тоже не видно.
Остальное (чашка на подоконнике, зима за окном и прочее) — всё то же самое.
Когда Бела задала дежурный вопрос («и что же там народу сегодня сообщили умного») я успел перелистать большую часть, лежащего на подоконнике.
Что там могли сообщить? Я не искал то, что называется «умным». Я искал истории.
— Зачитать? — спросил я.
— Ну, рискни, — отозвалась она, продолжая сонно передвигаться по комнате.
— Думаешь, стоит? — озорно, тон в тон жене, сказал я.
— Стоит — стоит!
— Думаешь? — настойчиво, чтобы ещё раз уточнить всю серьёзность намерений жены, спросил я.
— Думаю-думаю, — ответила она, никак не реагируя на мой плоский юмор.
— Как тебе такой заголовок: «ТАКАЯ ЖИЗНЬ, ЧТО И ВСПОМНИТЬ НЕЧЕГО»?
— Интригующе.
— Под таким заголовком рассказывается о том, что в областную клинику работниками правопорядка доставлен пациент, потерявший память при загадочных обстоятельствах.
— Я бы и сама не отказалась кое-что из Прошлого забыть навсегда, — сказала Бела.
— Серьёзно?
— Век свободы не видать. И что там дальше?
Я продолжал:
— Мужчина не помнит ни своего имени, ни возраста, ни того, откуда и каким образом он попал в Минск.
— Интересное дельце.
Я продолжал:
— Спустя сутки после появления в клинике мужчина выбрал себе имя — «Я».
— Странный выбор. «Я» — последняя буква в алфавите. Почему не «НЕ-Я»?
— Совсем не странное. «Я» — это то, что всегда было, что есть и всегда будет.
— Всегда? — спросила Бела. — Хотелось бы, чтобы это было так. Но что-то не укладывается данная «бесспорная» парадигма в сознании.
— Но ведь в его сознании она «уложилась». По мнению врачей, этот странный больной неплохо разгадывает кроссворды, вслепую и беспроигрышно играет в шахматы, но о своей личности ничего не может вспомнить.
— Может, это сумасшедшая выдумка сумасшедших журналюг? Может, это ложь: я — про жизнь и смерть.
— Смерть — это ложь. Никто никогда не рождался и не умирал. Все были всегда.
— Теперь всё «ясно и понятно»: смерть — это ложь! Официальная наука давно это «доказала». — Бела вышла из комнаты.
Когда она вернулась с косметичкой в руке, я продолжал:
— По мнению врачей, память мужчина мог потерять под воздействием сильного химического препарата.
— Лихо, — сказала жена. — Перебрал с химией? Или перепил? Есть такое птичье заболевание.
— Или недопил, — предложил свою версию я.
— Что там ещё обнаружилось интересненького?
— А вот «Вечерний Минск» (это можно рассматривать, как вариант предыстории больного под именем «Я»! ) сообщает о нехарактерном происшествии на трассе, вблизи посёлка Привольный: около восьми часов вечера там был обнаружен автомобиль «ВАЗ» с работающим двигателем, но без водителя и пассажиров. Попытки обнаружить владельца транспортного средства ни к чему не привели.
— Ты намекаешь, что тот самый пациент клиники вполне мог быть владельцем того самого «Жигулёнка»? — спросила жена.
Я ни на что не намекал.
Бела, наконец-то, была одета. Пора отправляться за покупками.
Прилично поколесив по Минску, мы (вроде бы) успокоились: и Миланка, и Мирослава, и баба с дедом будут приятно удивлены нашими подарками.
Объем праздничной провизии был определён размерами стандартной коробки из-под бананов, которую мы раздобыли на Комаровке. И в ней уместилось все: от гуся до фруктов и конфет.
Последние мелочи докупали в ближайшем универсаме, куда отправились пешком, оставив снаряженную автомашину дома: прогуляемся и в путь.
По дороге назад со мной приключилось уже хорошо знакомое: одышка, сердцебиение, ватные ноги. Хоть в гроб ложись (для порядка).
Ровно неделю я прожил без таблеток.
Мало того, с самого утра двадцать седьмого декабря, с 6.07, и до злосчастного универсама я не переставал удивляться самому себе: мне вдруг захотелось оголтело бегать по магазинам, торговаться на рынке, говорить смешные глупости жене!
Я даже подумал — может, все непонятные мои хвори остались в Прошлом? Может, пронесло? Ан нет, не пронесло.
Совсем непросто мне дались последние сотни метров до дома. Поначалу я пытался не подавать вида: ещё секундочку… и всё пройдет. Не прошло.
Жена поняла всё сама:
— Что? Опять?
Дома измерили артериальное давление. Тонометр выдал показания, близкие к критическим. Впору набирать 03.
— Звонить? — спросила Бела. В голосе — нотки тревоги.
— Нет, — сказал я. — Конечно, «подождем». Пока начнётся приступ.
Собирались-собирались и вот, на тебе — прямиком на диванные подушки.
Жене было не до моих словесных шпилек (не к месту):
— Так звонить или не звонить? — Теперь в её голосе звучало раздражение. Было видно — жена устала. Она устала от неизвестности причин моих недомоганий. Её страшила беспомощность врачей, к которым мы обращались. Её страшило отсутствие диагноза.
Беспокоила ли неизвестность меня, как беспокоила Белу? Не знаю. Метастазы безразличия вновь парализовали все мои мысли.
— Что ты сейчас хочешь? — спросила она.
— Я не хочу ничего. Это такая Страшилка, которую не надо бояться. Удивительная апологема: кто не хочет жить — тот продолжает жить, а кто жаждет жить вечно — тот умирает от микроскопического пореза на пальце.
— Ты не хочешь жить вечно?
Что мне надо было ответить, чтобы не нагонять страсти на пустом месте? Пуститься в красивые разглагольствования? Я ответил так, как есть:
— Оставим за скобками понятие «вечности». Я ничего не хочу (от слова «совсем», и от слова «жить»).
Прошёл час, прошёл второй. Моё состояние стабилизировалось: давление — 110 на 70. И пульс — 60 ударов. В Космос можно отправлять (как Гагарина). Какие будут соображения: в путь?
Нет, решила Бела, надо отлежаться. Отлежаться и прийти в себя.
Я был не против того, чтобы прийти в себя. Я был не против любого предложения, которое могло тогда прозвучать. В том числе, если понадобилось бы тотчас сесть за руль, и ехать, куда угодно, и за сколько угодно километров.
— Ты с ума сошел, — сказала она. — Делай то, что тебе говорят.
Диван, плед, телевизор, чтение, вкусная еда, жена, готовая в любой момент откликнуться на мой зов — что ещё надо, чтобы остаток жизни провести в Счастье («приходя в себя»)? Сон? Пожалуй. Значит, надо уснуть. Уснуть во что бы то ни стало, провалиться в небытие, безмятежное и сладкое.
— И спать вечно! — добавил я.
— Ты точно спятил, — с досадой произнесла Бела.
Нечаянно, но всё-таки меня прорвало. Чего я добивался? Чтобы у нас двоих, одновременно, крыша поехала?
Двадцать седьмого произошло то, что произошло. Не больше и не меньше.
Поездка была отложена. Машина, снаряженная и готовая преодолеть стосорокакилометровую дистанцию (а это — смешно подумать! — полтора часа хорошей езды, всего-то), стояла припаркованная на прежнем месте, у калитки дома, вся в снегу.
Я — в положении классическом: руки — на груди, глаза — в потолок (не хватает свечечки). Жена — рядом, в кресле: в мыслях она здесь и не здесь. (Большей частью все-таки не здесь, а в Бобруйске, с детьми).
На журнальном столике — аптечные склянки, серебряные упаковочки таблеток, лежащие в беспорядке, стакан с водой, тонометр.
Предположим, не уехали мы двадцать седьмого. Предположим, что задержимся. Задержимся на сколько? На сутки? На больше? Неровён час — и Новый год встретим на этом диване, среди этих подушек.
Между приемом пилюль и таблеток я-то себе занятие найду. А Бела? Чем ей заниматься? Сидеть рядом? Смотреть на меня?
Два месяца назад, когда мы собирали необходимое (самое-самое!), что могло понадобиться в Минске, обнаружилось — не так-то много нам и надо для жития-бытия.
Одежда уместилась на нескольких плечиках, которые мы уложили на заднее сидение автомобиля. Разные там мелочи, вроде фенов, духов, дезодорантов, зубных щеток, тоже заняли не много места. Вот, собственно, и весь нехитрый наш скарб.
Нет, не весь: в багажник, кроме всего прочего, я забросил две картонные коробки, набитые доверху не старыми, прочитанными давно, книгами и журналами, которые я (чем чёрт не шутит?) захочу перелистать. В них покоились (в анабиозе!) мои рукописи, скопившиеся за последние лет пятнадцать, до которых всё никак не доходили руки, чтобы это добро перебрать, и привести в порядок.
Это были не мои телесценарии и не газетно-журнальные публикации. Это было то, что писалось… (как бы это точнее-то сказать?) между делом: в провинциальной гостиничке, если откладывался отлет самолета; в самолете, если лететь приходилось часа три и больше; дома, если случались свободные «минутки»; реже — в редакции, когда очередной номер журнала был подписан в печать или когда очередная моя киношка была смонтирована и готова к эфиру.
Всё это творилось быстро: в качестве отдыха от основной моей работы (за которую я получал гонорары). После заключительной точки в очередном «шедевре», он (этот «шедевр») тихо перекочевывал с письменного стола в одну из двух загадочных коробок, где и покоился с миром. А следом рождался (будто бы сам собой) ещё один «шедевр», а за ним — ещё и ещё… Так постепенно и заполнились эти две коробки.
Я — то забывал о них напрочь, то вспоминал, планируя навести там порядок.
Перед поездкой в Минск коробки с рукописями попались мне на глаза.
Бела возмутилась:
— Что за блажь? Будет у тебя время в Минске заниматься этой макулатурой?
Я согласился: действительно — когда? Однако, вопреки здравому смыслу, написанное в Прошлом всё-таки оказались в багажнике: а вдруг?
Вот это «вдруг» и настало. Пока я буду приходить в чувства (в себя), чем не занятие — перебрать старые завалы. Кроме того, может, это будет ещё и лекарством. (Панацеей в моём, не имеющем аналогов, случае.)
Пару раз, уже находясь в Минске, ночами, когда Бела видела не первый сон, я не преминул-таки покопаться в коробках с «макулатурой». И каждый раз оттуда словно бы вырывалась энергетика какого-то иного мира. Я листал рукописи и удивлялся: неужели это моих рук дело? Охотнее бы поверилось, если бы всё это написал другой человек.
И ещё одно — из разряда не-парадоксальных-парадоксов! — я читал это «своё-несвоё» и мiр сегодняшний вдруг переставал восприниматься угрюмо-серым. В нём, насквозь мрачном Настоящем, неожиданно начинали проглядывать живые лица, а не мертвецы, выдававшие себя за людей.
Тогда, в те ночи, разбор рукописей превращался в таинство. И это таинство не имело объяснений. Обыкновенные листочки бумаги, испещрённые вкривь и вкось моими собственными каракулями, начинали подпитывать меня. Я ощущал, как непонятная аура исходит от них, окутывая всё вокруг. И хвори мои вдруг отступали. Я начинал радоваться простым вещам — завыванию ветра за окном, морозному воздуху, врывающемуся в приоткрытую форточку.
Единственное, чего не хватало тогда — это детей, Мирославы и Миланки, которые могли бы посапывать во сне в соседней комнате в своих постельках.
Есть мiр и есть мы в этом мiре. И случись нам слечь, занемочь, захворать, тут же мiр в наших глазах становится безнадёжен: мы больны — значит, и мiр болен.
Мы в ожидании неминуемого и скорого конца — значит, и у мiра нет шансов выжить.
И степень безнадежности этого мiра в полной (ничем не опровергаемой?) зависимости от степени нашей собственной безнадежности.
Два месяца назад с арендой жилья в Минске, где у нас не было ни единой знакомой души, нам (в каком-то смысле) повезло.
Жена среди частных объявлений нашла в газете самое неприметное, некрикливое, нерекламное: «сдаём комнаты». Какие это комнаты, каких размеров, где находятся, какова плата за проживание — никакой информации. И предложила съездить, посмотреть их.
Мы нашли тихий переулочек, длиною не больше километра, среди частного сектора в Северном районе, почти на окраине города (названия улочек — еще позабавились над этим! — были сплошь только Зимние, Байкальские, Енисейские, Ангарские, Иркутские…). И нам всё понравилось: месторасположение чистенького, ухоженного дома с большими, светлыми окнами, подъезд к нему, сами сдающиеся апартаменты, хозяева, поместившие в газете незатейливое объявление.
И почему это объявление не попалось Беле накануне: в тот злосчастный день, когда мы надумали воспользоваться услугами квартирного бюро? Вопрос на засыпку, к которому мы ещё вернёмся. Вернёмся обязательно.
В итоге вся процедура «сдачи-съёма», включающая осмотр и согласование условий проживания, заняла ровно пять минут.
Две комнаты, отделённые от остальной части дома общим коридором, вполне нас устраивали. Одну из них мы определили под кабинет (по причине нахождения там письменного стола), вторая комната, где размещалась, какая-никакая, мягкая мебель, днём могла выполнять функцию гостиной, а ночью превращаться в спальню. На окнах — обязательная тюль, недорогие шторы на деревянных карнизах, на стенах — ковры (несомненный атрибут достатка советских времен): в общем-то, не то, чтобы роскошно и очень изысканно, но добропорядочно.
Я вспомнил Гарри Галлера из «Степного Волка» Германа Гессе, который, попав в схожую с нашей ситуацию, «запрокинул, принюхиваясь, свою острую, коротковолосую голову, повел нервным носом, потягивая воздух вокруг себя и тонко подметил: «О, здесь хорошо пахнет…»
— Как раз самый необходимый минимум того, что нам и требовалось, — сказал я.
— Что и требовалось? — спросила мрачно жена.
(Всё у нас не как у людей, — повторяла в последнее время Бела. — Когда нам 25 лет — весь мiр был у наших ног, а в 40, когда большинство обретают все житейские блага — мы лишены всего. И кругом — болото: одну ногу освободим, вторая — увязла; вторую — освободим, первая снова ушла в топь…)
Потом она добавила:
— Вся наша жизнь стала нацелена на «минимум».
— Стала? — спросил я.
Бела хотела тут же что-то сказать, чтобы молниеносно отреагировать на моё безразличное «стала?», но, будто опомнившись, прикусила язычок.
Да, мы совсем некстати коснулись темы, на которую давно и негласно сами же и наложили табу: всяческие разглагольствования по поводу нашего, не лучшего Настоящего невозможны ни по поводу, ни без повода, и никаких оправдательных мотивов этому быть не может.
Алексей Сергеевич, хозяин дома, где мы поселились, оказался настоящим человеком-невидимкой.
После работы он, незамеченный никем, проскальзывал по коридорам к себе в комнату и прямиком на диван: газету — в одну руку, в другую — телевизионный пульт. Так получалось, что неделями мы не виделись, неделями нам не представлялось возможности просто поздороваться. Про таких говорят — и при пожаре будут лежать до последнего, пока пятки не припечёт: ах, неужели горим?
Зато Нину Николаевну, хозяйку, слышно было каждую минуту, благодаря скрипящим половицам: вот она хлопочет на кухне, а вот переместилась в столовую. Она в высшей степени — аккуратистка: нигде у неё ни соринки, ни пылинки. Всегда она что-то моет, трёт, чистит. Первое время мы умилялись — это надо же! Потом стало казаться, что внимания к порядку было даже чересчур, через край.
Первым, кто попал в тайную немилость Нины Николаевны, стал наш кот, существо очень-очень вольное в нашем семействе (чего никак не хотела раскумекать Н.Н., несмотря на наши уморительные пояснения по этому поводу: кот коту — рознь).
— Нет-нет! Что вы? Я не против, — произнесла она мягко. — Если вам надо — пусть себе живет, пусть.
Но через день-другой стало видно — не по душу ей оказался наш тигрообразный звереныш: и шерсть от него, и по столам шастает. (Однако кот наш был существом и короткошерстным, и чистоплотным, и шариться по столам — не шарился.) А когда после прогулки он, с ещё живой мышкой в зубах, залезал к нам в комнату через форточку, оставив следы лап на стене дома и на оконном стекле, Нина Николаевна была уже тут-как-тут, с тряпкой (Беле ни разу не удалось её опередить): быстрей-быстрей оттирать, потому что нарушен порядок. Нет, чтобы «скотине безмозглой» в дверь ходить, а он только в окно и норовит сигануть. (Надо сказать — наш кот никогда не брезговал дверьми, если они были открыты.)
А вслух об этом Нина Николаевна — ни гу-гу.
Жена, по возможности, выгуливала кота, как собачонку, чтобы он — от греха! — не накопал ненароком ямочек на огородных грядках («вдруг потом там расти ничего не будет?»), чтобы ходил в саду только по асфальтированным дорожкам: ни шагу влево и ни шагу вправо. Кому по душе будет такая жизнь?
Поэтому настал день, когда наш кот (по имени Макс) удрал и прогулял, неведомо где, пару суток. Потом вернулся, как ни в чем не бывало, потёрся у наших ног, будто извиняясь за все причинённые неприятности, но через день-другой опять пропал.
Нина Николаевна с готовностью все объяснила:
— Прикормил, видно, кто-то. Точно прикормил!
Не мог нашего кота никто прикормить. Он признавал только нас (свою стаю) и вряд ли позволил бы приблизиться к себе чужим, а тем более — взять что-то из их рук. В этом смысле он был существом особенным: и, вроде бы, кот, и, вроде бы, не кот вовсе.
— Да, это не кот! Это Кото-Чел! — сказала как-то Мирослава серьёзно. — Потому что он — Кото-Человек.
Мы с женой не стали оспаривать не по-детски дерзкое дочкино определение: Макс наполнял наш дом особенной энергетикой. Он (казалось бы) ежедневно, ежечасно, ежесекундно чистил наше жизненное пространство «от всякой скверны и грязи тонких миров» (как частенько и в шутку, и не в шутку, говаривал я), не давая возможности разным подозрительным существам приникать к нам и питаться нами.
— Макс — настоящий Кото-Чел! — повторяла Мирослава. — Поэтому у нас всегда хорошо. Хорошо и нам, и всем, кто у нас бывает. Правда, папа?
Вероятно, так оно и было.
— Как говорят: всё, что ни делается — к лучшему, — продолжила успокаивать нас Н.Н. — Правильно? Ну, пропал ваш Макс: вот проблема-то! Да и вы сами хороши, юмористы тоже мне: кота назвать человеческим именем. Куда это годится? Для издёвки?
Жену это утешало мало. После исчезновения Макса, она обошла все близлежащие дома, заглянула во все дворы. Нет, кот пропал бесследно.
Днями позже, когда я протирал стекла нашего авто перед поездкой, случайно услышал, как азартно местные мальчишки рассказывали о расправе пьяных мужиков над каким-то котом. Совершенно неправильным, по их представлениям. Сущем дикаре, осторожно и бесшумно передвигающимся, как на охоте, на полусогнутых лапах! Не откликающимся ни на какие «кис-кис»! И готовым пустить в ход когти и зубы при малейшем намеке на опасность!
И вот этого-то кота люди загнали в западню и колошматили там, чем ни попадя, а он всё не умирал и не умирал. Некоторые детали рассказа вызвали у мальчишек особенно восторженный смех.
Это был Макс. Я охотно поставил бы под сомнение: над КОТО-ЧЕЛом ли устроили расправу? Поводов для сомнений не было.
С женой услышанным я делиться не стал.
Появление Макса (точнее — Макса-2) в нашем семействе стало событием. Событием, которое не должно было произойти.
У нас уже жил белый бультерьер Аякс, поэтому мы не планировали заводить никаких котов, поскольку это могло означать только одно — превратить дом в место постоянных схваток между животными. И это в лучшем случае: кто знает, каков характер у булей, тот поймет, о чём идет речь. Другими словами, все обстоятельства были против появления среди нас Макса-2.
Дело было в Алма-Ате, на даче, летним утром, когда ночную прохладу, спустившуюся с гор, ещё не тронули слабые солнечные лучи. Мы завтракали. Дверь из столовой выходила в сад и была открыта настежь, когда Мирослава с Миланой, несговариваясь, в один голос закричали:
— Ой! Мама! Папа! Смотрите, какой к нам пожаловал гость!
На пороге стоял тигровой окраски котенок, как перед смертельной схваткой, с головой, склонившейся почти к полу и вытянутой вперед. Я улыбнулся и подумал — сейчас он, подобно пружине, выстрелит всем телом и нам… не сдобровать! Дети бросились к нему. Котенок пулей выскочил на волю и скрылся.
Через час он пожаловал опять. На этот раз в его облике проглядывало любопытство. Мирослава бросила ему кусочек колбасы, и он вновь сбежал, не притронувшись к еде. Мы поняли — да, это натуральный дикарь, родившийся здесь же, в садах, и живущий сам по себе, охотясь на мышек и птичек. Ему не нужны были наши подачки с барского стола. Дети соглашались с этим, но их желание приобрести ещё одну симпатичную «мягкую игрушку» оказалось сильнее наших с женой аргументов.
— Хотим-хотим-хотим! — кричали они, топая ногами.
Бела схитрила:
— Пусть папа посмотрит его. Если это нелюдимое создание окажется не мальчиком, то и думать об этом забудьте. Что потом будем делать с котятами, которых мама-кошка нам принесет? Топить?
Дети согласились — да, разумно. И принялись за меня:
— Папа, давай посмотрим. Мама сказала.
Легко сказать «посмотрим», а пойди — поймай. Никакие хитрости, придуманные нами, не срабатывали. Не срабатывали до тех пор, пока я не оставил на дорожке, ведущей к дому, кусок парного мяса (мяса не из холодильника, а прямо с рынка.). Наш дикарь схватил его и был таков. На другой день он получил очередную порцию свежатины. Потом я выложил маленькие кусочки мяса таким образом, чтобы котёнок, съедая их, приблизился к дому и очутился на пороге. В этот момент дети крикнули:
— Папа! Хватай!
И я котенка (зря я это сделал) схватил. За секунды он оцарапал и искусал меня до крови. Удержать этот маленький меховой комочек, представляющий собой сгусток энергии, я не смог. И наш дикарь, как ни в чём не бывало, снова удрал. Бела обработала мои раны перекисью водорода и зелёнкой. Это выглядело в высшей степени «красиво»: мои руки оказались зелеными по локоть. Миланка с Мирославой стояли рядом и чесали затылки: вот это зверюга!
Я решил перехитрить котенка во что бы то ни стало. Нет, его поведение не ожесточило нас. Напротив — дикарь вызывал загадочную симпатию к себе (у меня, у жены, у детей). Изо дня в день я выкладывал кусочки свежатины на дорожке, ведущей из сада к дому. Изо дня в день наш дикарь мастерски съедал мясо, и смывался вон.
— Не мучайтесь! — смеялась Бела. — Скорее вы изведете тонну мяса, чем он опять даст себя… взять в руки.
— Поймаем на второй тонне! — отвечали ликующе дети.
И мы поймали его, «на второй тонне». На этот раз самый большой кусок мяса я положил не на пороге, а за порогом, в столовой. Наш дикарь молниеносно впился зубами в аппетитный кусок, а я, выскочив из-за двери, схватил его. На этот раз я был в кожаной куртке, застёгнутой на все пуговицы, и кожаных перчатках.
— Смотри быстрей! — кричали дети.
Наш дикарь оказался мальчиком.
— Ну, вот! — торжествовали Мирослава и Милана. — Значит, он может жить с нами!
— Если захочет… — смеялась Бела.
Котенок, тем временем, кусал, грыз перчатки и рукава моей куртки. Я еле-еле удерживал его. И этот отчаянный, меховой гладиатор, который потом получил моё (стечение обстоятельств?) имя, был размером с две Миланины ладошки. Мы закрыли все двери, и котёнок, вырвавшись из моих рук, скрылся где-то в доме.
Несколько дней мы его не видели, зато его чашка с едой всегда была пустой: вроде только-только Мирослава наполнила её, а она уже была чистой. Постепенно наш дикарь отъелся, и стал к нам привыкать. Мы не держали его взаперти, он уходил гулять-охотиться, когда хотел, но обязательно возвращался назад, чтобы в полной безопасности отоспаться и набраться сил для новых похождений по окрестностям.
Таким образом, Макс-2 не превратился в нашем доме в «мягкую игрушку». Он стал полноправным (и самодостаточным) членом семьи. Не любил, когда его ласкали, если у него самого не возникало к тому желания. Не задирался на Аякса. Буль, в свою очередь, не задирался на кота (они парадоксально-уважительно не замечали друг друга). Детей Макс-2 терпел, но (чуть что было не по нему) мог и ударить лапой, не выпуская, однако, никогда когтей. Теплее относился к Беле (она кормила его). Регулярно приносил добычу (мышей, крыс), которую сам, в итоге, с хрустом и съедал. Любил трапезничать вместе с нами, стоя задними лапами на стуле и опершись грудью на краешек стола, положив перед собой, как на протокольном приеме, шерстяные передние лапки. Он не гнушался ничем, что ели мы. Дети ставили перед ним тарелку. Из неё он и питался. Если тарелка оказывалась пустой, он напоминал о себе: легонько, но настойчиво, ударяя лапой (без когтей) по руке того, кто был к нему ближе.
Вне дома, как уже было сказано, он любил подраться, и часто приходил с ранами на голове, на шее и по всему телу. Беле доверял лечить себя. Однажды Максу-2 ударили в переносицу, и нос у него распух так, как это бывает с боксёрами-людьми. Мы сострадали своему питомцу, и, одновременно, не могли сдержать улыбок.
А сколько наш дикарь, вместе с нами, сменил мест жительства — не сосчитать. Сначала мы беспокоились — потеряется. Не терялся. Наш кот привыкал не к дому, как таковому, где жил. Он привык к нам и, соответственно, принимал своим то жизненное пространство, где поселялись и где обитали мы.
И ещё он имел одну особенную слабость (с того времени, когда был котёнком) забираться мне на плечи и воротником лежать там часами. Отсюда и его имя. Сначала остроязыкатые наши детки посмеялись надо мной (над ним), а имя-то прицепилось: «Макс!» Потом котенок и отзываться стал только на это имя и никогда — на «кис-кис».
В наши апартаменты Нина Николаевна исправно заглядывала каждый вечер: что нового? как дела?
Заглянула и двадцать седьмого декабря. Я — бледный как смерть, распростёртый на диване. Жена — в кресле. И даже не в кресле, а на краешке кресла, будто присела на секундочку, и вид у неё не лучше моего.
— Не раскисать! — бойко приговорила наша хозяйка. — Сейчас наготовим разной вкуснятины и закатим новогоднюю гулянку. Все будет хорошо!
Хорошенькая идейка, подумал я, мы — в Минске, дети — в Бобруйске: веселенькой будет встреча 1998 года. Нам не хватает новогодней ёлочки! Тогда пушистые её веточки можно будет украсить таблетками в серебряных упаковочках и тонометром — главным атрибутом предстоящих праздников.
Тонометр, с которым мы теперь не расставались ни днем, ни ночью (за исключением, пожалуй, последней недели), был куплен женой ещё во времена застойные (советские). Когда точно? Никто и не вспомнит. Он был куплен без всякой на то надобности — давление мерить некому и незачем, медицинской практикой ни я, ни жена не занимались. Однако, по глубочайшему убеждению Белы, в любой приличной домашней аптечке тонометр должен быть. Быть и все. Как, например, йод и аспирин.
— И, как клизма? — спросил я.
— И, как клизма, — ответила жена снисходительно, оглядев меня с головы до пят — знакомый прием: будто видела впервые.
И вот ровно два месяца назад (после первой моей «скорой») мы вспомнили, что в нашей «приличной домашней аптечке» этот нехитрый аппарат есть: пришло-таки его времечко послужить по своему прямому назначению, а не числиться вечно в качестве экспоната. Бела довольно быстро овладела искусством обращения с тонометром. После первого же измерения давления Нине Николаевне, та театрально всплеснула руками:
— Так, ты ж у нас — настоящий лекарь!
Вообще, открытий в области врачевания мы, за сравнительно небольшой срок пребывания в Минске, сделали множество. Узнали, например, каким образом связана сердечно-сосудистая система с ЦНС (центральная нервная система), с ВНС (вегетативная нервная система), с легкими, печенью, почками, а также — со сном, питанием, курением, алкоголем. Понятие «фитотерапия» перестало быть для нас пустым звуком: раньше мы мяту ни за что не отличили бы от любого другого сорняка, пустырник — от обыкновенной колючки, теперь достаточно было одного взгляда, чтобы сказать — это мелисса, а это — чистотел. А ещё были хатха-йога, бег трусцой — по Амосову, закаливание — по Иванову.
Какими открытиями ещё мы могли похвастать?
Ёщё одним и, пожалуй, самым главным: тем, что смешного (как не крути) в нашем вынужденном медликбезе было мало. Уж где-где, а в постижении симптоматик тех или иных заболеваний мы бы (и в большей части Бела!) с удовольствием повременили бы лет эдак на «двадцать-тридцать-пятьдесят».
— Уж не столетия ли ты собралась пожить? — поинтересовался я у жены.
— Вовсе нет, не столетия, — ответила (обыденно так) она. — Ровно 144 лета. Жизненный круг. Больше не надо. Зачем больше?
Я не возражал: больше незачем.
Бела, кроме обязанностей быть женой, стала ещё и моим личным поводырем.
Круглосуточно мы находились вместе: ночью, утром, днем, вечером.
Ночью — понятно почему. Утром, если мне приходила безумная мысль пробежаться километр-другой, жена опять была рядом. Днем, если возникала необходимость съездить на автомобиле куда-либо, мы снова — вместе. Ну, а вечером — это святое дело! — выгулять меня, как чуть раньше она выгуливала Кото-Чела: ни шага влево, ни шага вправо.
Нашему дуэту не хватало (разве что) поводка и ошейника.
С другой стороны, поводырьская опека Белы была (вероятно) оправдана: а вдруг что-нибудь со мной стрясется? Тогда — что? И никого — рядом?
Причины моих недомоганий по-прежнему оставались тайной за семью печатями (покрытой мраком). Для жены это было равносильно, как получить удар в спину, исподтишка.
Когда речь зашла о диагнозе, участковый терапевт так и сказала:
— Я не знаю, что происходит. Анализы не показали никаких отклонений.
Завотделением поликлиники, куда Бела притащила меня на консультацию, была ещё лаконичнее:
— В случае приступов сбивать давление: вот и всё! — И сунула молниеносно-написанный рецепт на клофелин.
Что это такое — клофелин? С чем его едят? Сие тогда мы не знали. Знали бы — повеселились. Потому что клофелин в моем случае был таким же радикальным средством, как топор при головной боли.
После вручения мне рецепта завотделением с крайним недоумением взглянула поверх очков в мою сторону: этот престранный субъект ещё в кабинете? вот наваждение-то!
Если честно — мне давно не терпелось встать и уйти. Но я сидел и наблюдал.
Лицо хозяйки кабинета было чуточку осоловело-сытым и в меру бесстрастным. Легко было догадаться, что мысли почтенной докторши блуждали далеко-далеко от места, где она сейчас находилась, а непрерывные телефонные звонки никак не давали сосредоточить внимание на моей амбулаторной карте. Только она начинала вчитываться в содержание анализов — звонил телефон, и она опять с вызовом смотрела в мою сторону.
— Слушайте! — произнесла она тоном, каким делают внезапные открытия. — Вы на больничном уже месяц! А выглядите совсем неплохо — у большинства в таком возрасте пиджак на брюхе не застегивается.
Я понял причину столь тонкого замечания: пуговицы на её белоснежном, хрустящем от крахмала, халате готовы были в любой момент пойти на выстрел в самых непредсказуемых направлениях.
— Так-так-так, — раздумчиво проговорила она. Теперь её внимание задержалось на графе «место работы», и лицо исказилось в брезгливой гримасе: особой любовью, по-видимому, пишущая братия у неё не пользовалась.
В больничном листе, который мне, в общем-то, был ни к чему (как возможность освобождения от работы) в графе «диагноз» было написано: «Общее заболевание». Вот так: незатейливо! и концы в воду.
Результаты анализов показали, что я «совершенно здоров». По мнению врачей, я был полон жизненных сил (как статистическое большинство живущего ныне населения планеты).
— Вы больных, я думаю, никогда не видели, — иронично заметила завотделением. Она смотрела на меня с нескрываемым любопытством: точь-в-точь, как на блаженного. — Больной появляется на пороге этого кабинета, и я сразу вижу — это больной. Вы способны для себя уяснить, о чём я говорю? Вы нарисовались здесь, и я не увидела больного.
Выходит, подумалось мне, статистическому большинству здравствующего ныне населения планеты можно смело поставить диагноз: общее заболевание.
Уснуть! Во что бы то ни стало, надо уснуть. Вот, например, как мирно задремала сейчас Бела. Возможно, на неё больше, чем на меня, подействовала решительная убеждённость Нины Николаевны, что всё образуется. Жену настолько издёргали все последние ЧП, связанные со мной, что в её организме автоматически сработал механизм самосохранения: достаточно стрессов и достаточно нагрузок, теперь нужен отдых.
Во мне этот самый «механизм самосохранения» не срабатывал никак. Я был бы рад уснуть, но — увы и ах.
Несколько раз в дверном проёме вновь появлялась Нина Николаевна: может, нам что-нибудь надо? Нет, мы не нуждались ни в чём.
Я чувствовал себя «совершенно здоровым» — запало это докторское словечко!
«Совершенно здоровыми» были мои недомогания, и последовавшая за ними отсрочка нашей поездки в Бобруйск.
В. И. Даль трактует болезнь так: «…боль, хворь, немочь, недуг, нездоровье; по объяснению врачей: нарушение равновесия в жизненных отправлениях».
Я бы представил болезнь в виде реки с двумя берегами, когда ты со своим «совершенным здоровьем» (и всем таким прочим) — по одну сторону реки, а все остальные (в том числе и самые близкие тебе люди) — по другую. И реку эту не дано переплыть никому.
Первая моя «скорая» была (для меня, для жены, для всех), как гром среди ясного неба. Как следствие без причины.
Сколько себя помню, все обращения к врачам я мог бы сосчитать на пальцах одной руки. Что касается «скорых», которые ассоциировались не иначе, как связанные с чем-то неотвратимым, смертельно-опасным, когда без помощи (без помощи моментальной) не обойтись, когда счёт идёт на минуты, на секунды, об этом и речи быть не могло.
На деле оказалось, что «скорая» — это нечто более прозаичное и обыденное, чем представлялось.
«Примчалась» она, эта самая первая моя «скорая помощь», минут через 40—50 после вызова. И вошли, не особенно спеша, трое вялых человекообразных здоровяка в белых халатах, и принялись, долго не рассуждая, делать мне кардиограмму. Я попросил немедленного, скорого укола. Флегматичная команда «скорой» указала мне на постель: истерик устраивать не надо, лежать смирно.
Я понял — то, что происходит со мной, никого особенно не волнует. Тебе могут (протокольно) соболезновать. Тебя могут успокаивать. Но проникнуться тем, что (без протокола) испытываешь ты, когда начинаешь сознавать — ёще немного и тебе каюк (и самое время отправляться в морг, чтобы патологоанатомы (косметологи) сделали тебя покрасивше перед кремацией или преданием земле, на пару метров вниз, чтобы ферментация шла, как надо, и для кладбищенских червяков — корм) — это из области фантастики. Такое можно увидеть, разве что, в кино. В жизни — всё иначе.
Начало приступа было мгновенным: вот у человека было всё в порядке, а стало… Не знаю, зафиксировал ли я в памяти эти первые секунды приступа или они обросли домыслами позже, но сейчас они вспоминаются только так: что-то, помимо моей воли, омерзительное начинает шевелиться (у меня) внутри, и следом — весь организм начинает идти вразнос: не хватает кислорода, мышечная скованность охватывает всё тело, а пульс всё увеличивается и увеличивается. Что же это такое творится?
Я тогда так и спросил:
— Что же это такое со мной творится?
— Лежите тихо, — приказали мне (тоном ультиматума).
А лента кардиограммы всё выползала из-под самописца и выползала, и этому не видно было конца.
— Лежать тихо? — спросил я.
— Лежите тихо!
Через временной отрезок, равный вечности, мне сделали (наконец-то) укол. Укол какого-то папаверина с каким-то дибазолом. И пояснили, что «укол уколом, а обследоваться в стационаре не помешало бы». Потом трое в белых халатах также вяло, как и пришли, направились к двери.
— Дело в шляпе? — остановила их жена.
Один из троих, тот, кто, по-видимому, был врачом, ответил:
— Давление мы сбили.
— Надеюсь, что навсегда? — попытался шутить я.
Он не удостоил меня ответом: много чести, чтобы трепаться со всяким встречным-поперечным, тем более — с очередным вызывальщиком «скорой»: ни конца этим звонкам ни края нет.
Потом я уснул. А проснувшись, стал припоминать: да, приезжали «Айболиты»; да, делали кардиограмму; да, укололи чем-то. Я уснул больным (это точно), а проснулся, как всегда.
Первая «скорая» напугала всех. Всех, кроме меня.
Бела тогда возмутилась:
— Какая может быть работа? Какой может быть Минск?
Иначе думал я: да, был приступ. Ну и что? Я уже знал, что само понятие «скорая» — это совсем не так страшно, как раньше рисовало воображение.
Всё, что произошло — вздор, пустяки. Значит, и беспокоиться нечего.
Вторая «скорая» несколько удивила меня. Но не настолько, чтобы согласиться с женой. Ничего страшного: на войне, как на войне. Живем дальше.
А дальше была и третья «скорая», и четвертая. И вот докатились: у всех нормальных людей — праздник, а у нас — «отдых»: в чужом доме, на чужом диване, на чужих подушках.
Большую часть вечера двадцать седьмого декабря мы провели в настороженном молчании.
Я нажимал на кнопки пульта дистанционного управления, перепрыгивая с одного телеканала на другой. Бела делала вид, что её страшно интересует всё, что происходит на экране. Разве что, однажды она печально обмолвилась, запустив пятерню в мою шевелюру:
— Стареем потихоньку, стареем. На висках вот, погляди-ка — одно серебро. Раньше не замечала.
И я раньше не замечал. Не замечал многого. Некогда было замечать. Зато теперь представился уникальный случай увидеть прежде неувиденное.
— Такое в жизни случается, что «мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один», — «блеснул» остроумием я.
— Чья это цитата? — спросила Бела. — Или это не цитата?
— Не скажу, — вторично «блеснул» остроумием я.
В тот вечер жена и я погрузились в настоящую идиллию. Тёплый домик, занесённый снегом по самые окна. В этих временных, принадлежащих не нам, апартаментах царит вечный уют и вечный покой. Словно нет на свете никого, кроме нас двоих, слегка подуставших человечков: мне — аж целых тридцать восемь лет! жене — тридцать семь!
Что касается возраста, то здесь ещё бабушка надвое сказала. Он ведь бывает разным: не только биологическим, а ещё таким, когда, как на войне, год за два идёт. Поэтому (если рассуждать с этой точки зрения) то мне не так уж и мало — семьдесят шесть лет, а жене, соответственно — семьдесят четыре. Китайцы считают, что старость наступает после 90 лет. Значит, нам (до старости по-китайски) ещё «жить и жить»: десять с хвостиком годков. Если тебя одолевают болезни? Займись своим здоровьем. Теряешь близких людей? Учись жить один. (И, кроме этих двух вопросов и ответов на них, можно привести ещё десяток подобных прописных мудростей.)
Априори: это по представлениям старым (немодным и «спорным»). А по представлениям современным — самое время посетить нотариуса, чтобы написать завещание.
Жене (двусмысленно или по сути?) я сказал:
— Суеты, возможно, внутри нас стало меньше, а потому замечать стали больше. Что замечать? То, что жизнь вокруг нас (именно — вокруг нас) ключом не бьёт…

Не успел я закончить фразу, как часто-часто зазвонил телефон — значит, междугородний!
Аппарат на длинном шнуре стоял на полу, рядом с диваном. Кто бы это мог вспомнить о нас? Кто решил нарушить мой терапевтический покой? Я взял трубку.
Это был Борька Левитин. Из Израиля. Вот он — ещё один предновогодний подарочек!
Четыре года назад — весёленькое времечко Перестройки, затеянной Горбачевым и продолженной Ельциным, когда взлет национального самосознания на национальных окраинах бывшего Союза достиг апогея, и дальше ждать, куда выведет кривая, было некуда — надо было что-то делать! — Борька уехал из Алма-Аты практически в одно время с нами.
Он подался в Земли Обетованные.
Мы остались в пределах несуществующего уже СССР, лишь переместившись с Востока на Запад, так и не добравшись до границы железного занавеса, и, тем более — не оставив её, границу, за спиной. (А, может, надо было? Тогда, четыре года назад?)
Большинство друзей по Алма-Ате поступили как раз так. Кто-то оказался в Европе, кто-то — в Канаде или США, а кого-то (страшно представить) забросило в Австралию. Связь не теряли, перезванивались. И чем больший срок отделял нас от Прошлого, тем реже мы слышали голоса друг друга.
Борька, вопреки всем правилам, не терялся из вида, позванивал регулярно.
— Куда вы запропастились?! — орал он, хотя слышимость была отличной. — Вы в Минске?.. Набираю Бобруйск — вас там нет. Глухо. Грешным делом подумал, что подались обратно в Алма-Ату. Понимаю — назад пути нам заказаны… Хорошо, что родителей твоих вызвонил. Дали — ракмет им! — минский ваш номер…
Борька — прежний, энергия бьет ключом. Его речь — всё равно, что пулеметная очередь. Это их семейное. Потому что и Люся, его жена, ни в чем не уступала Боре в изяществе выражений. Левитину, помнится, и на редакционных планерках тяжело было контролировать себя: бывало — так загнёт!
— Карьера, говоришь?.. Какая, к свиньям собачим, карьера? Все мы, снявшиеся из насиженных гнезд и десантированные в поисках лучшей доли в новые резервации — люди конченные! Почему? Да, потому что не кончаем! Ха-ха!.. Нет, еще не разучились. А сами, на деле-то — не можем!.. Думаешь, что не стоит мочь? Конечно, не стоит, когда не стоит! А когда стоит — стоит!..
Я подумал — Борька хватил спиртного, после чего и набрал наш номер.
Он продолжал:
— А знаешь, какая любимая тема всех этих десантников-репатриантов? А, вот и не знаешь! Возьми карандаш и царапай под диктовку: «Вечное соплежуйство по поводу того, кем они были раньше! То есть — тогда, в „ужасном“ СССР». Записал?
Нет, язык у Левитина, вроде бы, не заплетался:
— Никто и никого нигде не ждет! Ха-ха!.. Думаешь, нас здесь с оркестром и цветами встречали? Дулю! В Израиле любят «алию» (эмиграцию), но по-прежнему не любят «олим» (эмигрантов)! Анекдот на этот счет слышал? Так вот, в Израиль прибывает очередной самолет из Союза — наших-то здесь, сам знаешь, пруд пруди! В «Бен-Гурионе» у них проверяют документы. Выясняется, что первому сошедшему по трапу — 90 лет, второму — 85, третьему — 100. Таможенник в раздражении: «И на кой хрен было в таком-то возрасте перемещаться?» «Мы прибыли на историческую Родину, чтобы умереть!» — гордо заявляет глава репатриантов. «Ну, и…» — смягчается чиновник, поощряя прибывших к немедленному исполнению заветной мечты… Как тебе такая предъява?! Здесь ещё надо разобраться, кто и кому нужнее: мы — Израилю? или Израиль — нам?!. Кому нужен я? Никому! Дай Бог, детям пожить нормально, когда они оперятся. А так… для нас здесь — всё сначала: жизнь, кайф от жизни; друзья, кайф от друзей; семья, кайф от семьи; работа, кайф от работы… Но с кайфом наблюдаются некоторые нестыковки! Вроде бы мы (по всем статьям) сыты, как домашние кролики! каждый день — праздник желудка! а кайфа нет: во как… Ты понимаешь, о чем я: пьёшь вино, а вино не пьянит! только на утро — голова квадратная, и состояние чумное. Страна, где мы живём — это гнойник на теле Земли. Споры разложения от неё разлетаются по всей планете… Продолжаем учиться! Учимся жить! Учимся дружить! Учимся работать! На иврите чешем! Продемонстрировать?.. Не хочешь? А знаешь, чем отличается Тель-Авив от Москвы? В Москве Еврейский университет есть, а в Тель-Авиве Руского университета нет, и никогда не будет. И там, и там наверху — евреи. РФ — богатейшая по природным ресурсам страна, Израиль — не очень: разница есть. И там, и там есть средняя зарплата: разница есть, на порядки. И там, и там есть пенсионеры: разницы нет. Пенсия в РФ (до смешного) меньше, чем в Израиле: разница есть.
Дальше последовала пулемётная очередь на иврите вперемежку с руским матом.
— Если честно — хочу дастаркан с мантами, шашлыком и ведром портвейна, как раньше! Помнишь?!. Люська вот трубку из рук вырывает. Да, отстань ты, в конце концов!
Да, всё знакомо. Всё, как прежде. И звонок левитинский, и сумбурный разговор. И голова моя, вроде бы, стала яснее.
— Думаешь — ностальгирую? Сопли распустил? — Левитин разразился смехом. — Нет никакой ностальгии! Думаешь, мандражирую перед Будущим? Нет этого! И ничего нет.
А что тогда есть, хотелось спросить мне. Кроме Настоящего, которого нет.
— А что там по этому поводу писано в умных книгах? — сказал я вслух.
— В еврейских? Ты имеешь в виду Книгу книг?
— Нет. Я о тех книжках, которые никогда не были самыми издаваемыми.
В трубке зашумело-забулькало.
— Ясен пень — подключился МАССАД! — не удержался, чтобы не покуражиться Борька.
Шумело-булькало в трубке секунд тридцать.
Значит, и отвечать на свой же вопрос мне самому: поднапрягись, Макс!
И я поднапрягся, обнаружив в самых потаённых тайничках мозговых файлов следующее: «Само наше существование проходит в атмосфере несуществования… Тем или иным путём мы ввергнуты в асат».
— Слушай! — как будто с того света, выплыл опять голос Бори.
Я сразу догадался, о чём пойдет речь.
— Бросайте всё на хрен! И к нам! Хоть на неделю! Хоть на день! А?.. Ну, обойдётся вам эта поездка в полторы тысячи баксов, всего-то. Не обеднеете.
Я хотел было развеселить Борьку сообщением о моей двадцатипятидолларовой зарплате в редакции толстого минского журнала, и непоняткой насчёт гонораров: будут они или нет — поди угадай. В прошлые, алма-атинские времена, мы, возможно, и не обеднели бы. А сегодня, почему бы Левитину самому не прилететь самолётом в Минск?
Он (так показалось) будто услышал несказанное. Услышал через тысячи километров:
— Понимаю, базар жок: миллион всяких «но» сильнее наших желаний. А, может, плюнуть на всё? И вместе на пару дней в Алма-Ату?
Ещё одна авантюра в духе Левитина!
— Мы и вы: вместе. К лешему — деньги!
Пауза в разговоре.
На том конце провода было слышно, как идёт перепалка (не на жизнь — на смерть!) между Борькой и его женой.
— Базар жок! — оборвал на полуслове сам себя он, нервно похохатывая. — С наступающим! Время, сам понимаешь, шекели отщёлкивает: и не поговорить толком. Всё! Целуем!
В трубке — короткие гудки: поговорили.
Оставалось только тупо смотреть на телефонный аппарат: что не успел я сказать, что надо было непременно сказать?
Вот об этом обязательно надо было намекнуть Борьке: беда наша не в том, что нам «посчастливилось» жить в эту «замечательную» эпоху, а в том, что оказались мы не в том месте, где следовало оказаться.
Нижеследующий абзац может быть представлен только в скобках:
(Кроме того, не помешало бы напомнить старую истину: мы все ввергнуты в асат.
Как давно это случилось? Когда Библия стала самой издаваемой в мiре книгой, тогда и начался раскардаш, переросший позже в полный асатовский раскардаш.
Не забуду — обязательно напомню об этом в другой раз.)
Ещё надо было добавить (без скобок) цицероновское: «Где хорошо, там и Отечество». Это для пущего форса, чтоб уж у Левитина (по полной программе) крышу снесло.
Мой отец, отличный службист (без пафоса: готовый жизнь положить за Отечество; «есть такая профессия — Родину защищать») последние семь лет кряду, при каждом удобном случае, талдычил:
— Вот ты мне скажи: тебе при Союзе, при том самом «зловещем» брежневском «Застое» было плохо? War es schlecht für dich?
Он нервничал, смешно, как дирижер, размахивая руками. Просто так от него было не отстать. А ещё труднее — не втянуться в дискуссию, чего он, собственно, и ждал, предвкушая удовольствие, когда с улыбочкой, стуча себя в грудь, начнет сыпать аргументами: «Демократию хотели? Пожалуйста, получили! Только не власть народа, а клептократию! В аккурат, дебил на дебиле сидит и дебилом погоняет: дожили… Все эти новомодные измы — либерализмы! пацифизмы! антисемитизмы! толерантизмы! — это ловко (искусно!) расставленные капканы для вас, дурней… Свободы хотели? Вот она, вожделённая „свобода“! Держите меня семеро. Да, раньше порядок был! Сегодня — ворюга на ворюге! И управы ни на кого не найти: дожили. Да, раньше все были сыты! Обуты и одеты! А сегодня? Да, лучше за колючей проволокой с „ненавистными коммунистами“, чем с Горбачёвыми и Ельциными и с такой „свободой“, будь она неладна!..» И так далее, до бесконечности.
Однако чтобы разговор завязался, его надо было как-то начать. Нужна затравка. Поэтому отец и пытал:
— За других не спрашиваю. За себя ответь: тебе при Союзе было плохо?

Да, мне при Союзе было хорошо. Конкретно мне, моей жене, моим детям, моему окружению (Борьке, в том числе). Плохо не было.
Более того: не случись революций и перестроек, я преспокойненько бы довольствовался тем, что есть и дальше, лениво (возможно, чуть быстрее, чем другие) двигаясь вверх по служебным лестницам. (Может, мне везло?)
Я делал то, что умею, и мог позволить себе не делать того, чего не хотел. Я был в меньшей степени, чем кто-либо, зависим от обстоятельств, кроме как от самого себя: как трудился, так и получал. (Опять везение, удача?)
Да, мне при Союзе было хорошо. К чему лукавить? Мне и после развала Союза, когда грянул передел всего, что можно было поделить, было (вроде бы) неплохо.
— А что ж это ты, раз такой умный, подался тогда из Алма-Аты? — не забывал забросить крючок с наживкой отец. — От большого благополучия? Или от переизбытка свободы?
Я мог бы сказать, что имел достаточно оснований, чтобы не «податься» из Алма-Аты. И ничего — не сгинул бы. Я мог бы, в конце концов, сказать, что, кроме меня и Белы, есть ещё и наши детки, которых мы родили.
Они очень виноваты в том, что появились на свет в Алма-Ате, а не где-то в другом месте? Оставив их жить там, я должен был закрыть глаза на то, что они никогда не будут людьми первого сорта, как прежде: Казахстан стал государством для казахов! все остальные могут принять это, как данность, или валить, куда хотят.
Я мог бы привести ещё с десяток аргументов. Но произнеси я хоть полслова, и отец принялся бы рубить с плеча:
— Что? Устали от нормальной жизни, где признавались интересы не меньшинства, а большинства? Разве это не было благом для всех живущих в СССР?
— …
— Прежняя жизнь была реальностью, а не иллюзией, как теперь.
Я мог бы поумничать про советские «плюсы» и «минусы» при Ленине, при Сталине, при Хрущёве, при Брежневе, чтобы не промолчать и соблюсти протокол диалога.
Я мог бы сказать, в конце концов, что только рабам можно дать свободу. Свободному человеку свобода — зачем?
Но отец бы не растерялся. Он нашёл бы, чем ответить: каким хлёстким примером и какой звонкой словесной оплеухой. Он бы (в лучшем виде) устроил мне ликбез!
Вот-вот, именно борькины слова «про ликбез» я чуть было не упустил.
Я (вроде бы) сделал полный отчёт нашего телефонного разговора, как по стенограмме. Однако эта частичка его едва не подзатерялась. Чуть было не подзатёрлась.
— Итак, про ликбез! — голосом Левитана вострубил Левитин. — Ты, надеюсь, понимаешь, что прибыв на историческую Родину, было бы опрометчиво не встать на путь ликвидации своей иудейской безграмотности?.. Днями, значит, читаю я Йосефа Телушкина — есть такой равви с «истинно еврейской фамилией» в Нью-Йорке! — что-то типа такого: «где бы ни жили евреи, они совершают меньше преступлений, чем их нееврейские соседи. Похоже, что кашрут цивилизовал их душу». Конец цитаты. Применительно к библейской Персии — вспомнилась библейская Эсфирь. Применительно к Руси — 1113 год. Применительно к США — уничтожение ста миллионов индейцев, работорговля неграми. Применительно к России — 1917 год, Розалия Залкинд (Землячка), Брауде, Е. Бош, Р. Мейзель, Дора Явлинская, Ремовер… Я думаю: а применительно к Израилю, что должно было вспомниться?.. На автомате включаю телек, слушаю местные израильские новости. Мне сообщают, что в какой-то там кафешке, где сидела компания молодых людей, еврея, прибывшего на историческую Родину из СССР, убили за то, что он в разговоре не перешёл с руского на иврит, когда от него этого потребовали!.. Опять беру Телушкина (ведь у меня — ликбез!) читаю: двое евреев идут по пустыне, жара и т.д., и только у одного из них есть вода, чтобы не погибнуть и добраться до ближайшего поселения. Как поступить: поделиться и, вероятно, погибнуть вдвоём? Или не делиться и выжить одному?.. Внимание, «правильный ответ»: не делиться!.. Комментарии нужны?
Сегодня весь мiр заточен на второй вариант: меньше народу — больше кислороду. Для позолоченного миллиарда. В одеждах избранных.
(Любопытно и, возможно, не совсем приятно глазу: а как «позолоченные» будут выглядеть без своих одежд?)
Да, что там книжки? Первые лица первой обоймы суперцивилизованных стран на весь мiр трубят о нехватке «кислорода». А что церемониться? Прошли времена, когда об этом громко (чтобы слышно было всем) не трубили.
В СССР вопили об этом — как истошные! — преимущественно на кухнях.
Сейчас можно всё. Мiр стал другим.
По Мэджору, «задача России в современном мире — обеспечение ресурсами Запада, а для этого ей достаточно 50 миллионов» руских аборигенов. Больше не надо.
По Тэтчер (той, что Железная леди), «России за глаза хватит и 15 миллионов, чтобы обслуживать скважины и рудники…» Она лучше всех знает, что надо северным туземцам, а что — «позолоченным избранным». И чтобы всё было в шоколаде.
Думаешь, меня с перепоя занесло на повороте, в порыве супергуманистических откровений?..
Да уж, подумал я, самое время включить диктофон, чтобы зафиксировать борькин предновогодний спич.
Я не перебивал Левитина.
— А что Горбатый? — спросил он. — За что он отхватил Нобелевскую премию? Не за кровь, пот и слёзы, которые случились, благодаря его «созидательной» деятельности и приближению всего мiра к демократии и свободе? За ЭТО.
— …
— И последнее. Из аннотации к труду Телушкина: «эта книга… может служить великолепным пособием для педагогов». Конец цитаты.
Я не перебивал Левитина.
— У матросов (педагогов) есть вопросы? — произнёс он. — Макс, ты ещё не созрел, чтобы стать «матросом» и передавать свои знания молодой поросли?..
Эх, Левитин-Левитин! Да, мне только и остаётся, как стать педагогом.
Тему первой «матросской» лекции можно обозначить так: «М. С. Горбачёв, апрель 1985 г.». И начать её с эпиграфа из «крылатых» речей Генсека ЦК КПСС: «Говорю то, что думаю. Точно так же, когда обо мне говорят, что думают, а даже не думая, говорят. Почему же я, думая, не могу сказать?..» Увертюра в тональность. «Сильная» мысль.
В Алма-Ате (в той, в другой жизни) я уже состоялся, как наблюдатель. Нейтральный такой — ни за красных, ни за белых! — созерцатель вечного столкновения двух сил: энтропии и регенерации. (Не состоялся бы, то и денег мне не платили за мои наблюдения в политике, в экономике.)
Другой вопрос: каким я был наблюдателем — слепым или зрячим?
— Наблюдатель! Ау! Где ты? — это я обращаюсь к самому себе. — Сегодня ты перестал наблюдать, что происходит вокруг?
Три тысячи (плюс-минус) человеческих особей (из категории особенных!) в капиталистической РФ живёт кучеряво! И кучерявее не придумать: дворцы, яхты, самолёты…
Сегодня ты перестал наблюдать, что этих трёх тысяч обслуживают пятнадцать миллионов, которые живут не так кучеряво, но более-менее сносно?
Сегодня ты перестал наблюдать, что остальные шестьдесят миллионов (плюс-минус) — в бедности, а семьдесят (плюс-минус) — в нищете?
Сегодня ты перестал наблюдать, что всё нынче по понятиям, по демократическим: богатые — богатеют, бедные — беднеют, а нищие, вообще, избыточное население, они — лишние.
(Страсть, как забавно беседовать с самим собой.)
На это я должен ответить:
— Зачем наблюдателю быть зрячим (или слепым), если сегодня он глухонемой?
Это в Алма-Ате мы что-то из себя представляли, когда была «цезура» и «несвобода».
Сегодня мы — ноль (без палочки), когда нет никакой «цензуры» и есть полная «свобода».
Выходит, что я созрел.
Боря прав: мне только и остаётся, как стать педагогом, срочно!
Телефонный аппарат, благодаря которому мы только что общались с Левитиным, стоял на полу, среди вороха разной макулатуры: газеты, журналы.
Я взял первое, что попалось на глаза. Это была «Советская Россия», номер от 15.09.1994 г. и прочитал: «Я предпочту в России хаос и гражданскую войну тенденции воссоединения её народов в единое, крепкое, централизованное государство…»
Кто же автор этих «светлых» мыслей? Вот, нашёл: Генри Киссинджер.
Политика. Ваньсуй политика!
Без политики никуда. Политика — на работе. Политика — дома. Политика — везде!
Я и существовал всегда где-то рядом с ней. Потому что наблюдал за всем происходящим в жизни (окрест себя) будто бы со стороны и, в то же время, не мог отделаться от ощущения, что и сам я внутри всех процессов. А как иначе? Вся пресса, ТВ, обслуживающие власть, были под бдительным партийным оком. Чиновники-коммунисты определяли нам и зарплаты, и размеры гонораров. И никуда от этого было не деться.
Выходит, политика меня и кормила.
— И вскормила! — зло добавлял отец. — А что ж теперь-то не кормит? Времена не те? Значит, лучше «плохая» КПСС, чем «хорошая» демократия?
Логика у отца была железной.
Политика перестала меня кормить.
Мне теперь не надо напрягаться, чтобы быть наблюдателем, как раньше. Хотел взлететь и взирать на всё с высоты, не замарав крылышек — получи.
— За что боролись, на то и напоролись! — продолжал отец.
Я не сдержался и (как-то) сказал:
— По логике Цицерона, если нам в Алма-Ате (и до, и после разлома эпох) было хорошо, там и Отечество. С одной стороны, это можно воспринимать, как утверждение. С другой стороны — со знаком вопроса. Как правильнее поступить?.. Подсказка к правильному ответу: у Ключевского есть такой «спорный» постулат: «Когда умный спорит с дураком, то получается спор двух дураков».
Я намеренно хотел запутать отца. И я добился своего.
Он задохнулся от переполнявших его противоречивых эмоций.
— Дурак! — ответил он разочарованно. — Извини, конечно, за прямоту.
Он мог бы не извиняться.
Я смотрел на него и завидовал ему. Как здорово, когда всё укладывается в простую схему: здесь — чёрное, а здесь — белое.
К слову об отце и Левитине.
Во время одной из пикировок, в качестве лирического отступления, я предложил отцу анекдот, борькин, о двух скелетах.
— О чём — о чём? — с вызовом переспросил отец, сделав вид, что не расслышал.
— О двух скелетах, — повторил я.
— Мели Емеля — твоя неделя, — скептически разрешил он.
— Встречаются два скелета, разговорились. Один спрашивает: «Ты в какое время жил?» Второй: «Да, во времена Брежнева!» Первый: «А умер когда?» Второй: «Да, в его же время. А ты в какое время жил?» Первый: «Во время Перестройки!» Второй: «А когда умер?» Первый: «Да, я ещё живой!»
Реакции никакой: ни улыбки, ни реплики. После красноречивой паузы отец спросил:
— Сам придумал?
Я не успел и слова сказать.
— Понятно, — добавил он сухо.
А есть ещё другая аксиома, нецицероновская: там хорошо, где нас нет!
…что такое Перестройка?
— А хрен её знает, — заковыристо отвечал Борька во времена «грандиозных» горбачёвских реформ. — Это вам надо газетки внимательнее почитать.
Газетки (самые «продвинутые»! ) по отработанной методичке просвещали народ: если твои мысли не согласуются с идеями Перестройки и Демократии, значит, у тебя «совковое» мышление, и в этом корень всех проблем. Если ты не вписался в новую жизнь, значит, ты — «совок»!
Слово «совок» превратилось в нечто такое, от чего шарахались, как от чумы. Кроме, разумеется, Левитина. Он предлагал:
— Хотите, я выйду на улицу и крикну: «Да, я — совок!» Хотите?
Никто и никак, помнится, не отреагировал на борькин вызов. Это было опасно — во-первых. Это никак не согласовывалось с духом времени — во-вторых. Все почему-то из кожи вон лезли, чтобы их поступки и мысли согласовывались с духом времени.
Повезло или не повезло тогда Борьке? Левитин, предположим — исключение. Он — не в счёт.
А сколько т.н. не-совков купались в иллюзиях о закордонных молочных реках и кисельных берегах, заглотив наживку мифа о капиталистическом изобилии (в виде модной импортной тряпки, в виде потрёпанной (или непотрёпанной) иномарки, в виде сказочного быта, увиденного из окна туристического автобуса, в виде сытой и беззаботной жизни в условиях частной собственности (святое!), свободы предпринимательства (святое!) и свободы слова (святое святых!)? Таких было не счесть.
Мы (карта не так легла) никогда не питали иллюзий, что есть на Земном шарике некие заповедные, райские уголки, где у людей не жизнь, а сплошной праздник, где всё находится в космической гармонии. Ни раньше, ни теперь. (Не повезло?)
Борька по этому поводу выражался образно:
— Что там, что здесь — один хрен. Только вид сбоку!
Относительно того, кто правит мiром, у нас сомнений тоже не было. Ни раньше, ни теперь.
Как это было объяснить отцу?
Как объяснить, что политика — это такая игра. Игра опасная и игра азартная, где главные действующие лица пребывают в самодовольной уверенности, что от них может что-то зависеть: выход из тупика или преодоление краха.
Это почти, как в руской сказке: Змею-Горынычу рубят голову, а на её месте вырастают новые зубастые пасти. Однако оптимизма в призывах политического бомонда не становится меньше: пропасть почти рядом (не за горами)! давайте дружными рядами — шагам марш на встречу «со счастьем»!
Советско-коммунистический тупик был предопределен. И крах — предопределен.
И никакие самые изощрённые инъекции не спасли бы инфицированный синдромом саморазрушения организм.
А ещё по телефону Борька — «натуральный прозелит»! — пожаловался:
— Ты представить себе не можешь, как я (здесь и сейчас) завидую тем, у кого с манией величия всё в порядке: ну, ты понял, о чём я. Предложили бы мне заразиться этой сладкой заразой, я бы отдал любые деньги. И зажили бы мы с Люськой (богоизбранные из позолоченного миллиарда) на Святой Земле, как в раю! — рассмеялся он в трубку.
И смех этот был какой-то фальшивый. Лживый насквозь. Это был смех не человека.
Я представил Борьку в роскошном супермаркете, где продают такие вот супер-актуальные продукты, как те, о которых он сказал, в ярких таких, соблазнительных упаковочках. И он выбирает среди изобилия видов и подвидов этих полезностей для счастья и здоровья, какой более ему сейчас жизненно необходим.
И Бела, и я, как заворожённые, смотрели на телефонный аппарат с лежащей на нём сверху трубкой.
Мы находились под впечатлением борькиного звонка.
Если бы лет эдак десять назад — в 1987 году! — матершиннику Левитину нашептали, куда его (и не только его) может занести судьба-злодейка, он бы точно не удержался: съездил бы тому предсказателю в ухо.
Итак, вопрос остаётся открытым: где хорошо, там и Отечество?
Или: ТАМ ХОРОШО, ГДЕ НАС НЕТ?
Жене (чтобы абстрагироваться от вечных проблем и вечных, не имеющих ответов, вопросов) я сказал о другом:
— В папирусе Присса, датируемом примерно 3 тыс. лет до н.э., я прочитал: «К несчастью, мiр сейчас не таков, каким был раньше… каждый хочет написать книгу. Конец света уже близок…»
— Ты хочешь написать книгу? — спросила Бела с тревогой в голосе.
— Ни в коем случае, — ответил я. — Время Книг (с большой буквы) уходит в Прошлое. Писать книги надо было в Алма-Ате, когда я мог опубликовать всё, что угодно.
— Хоть чёрта лысого? — рассмеялась она.
— Хоть чёрта лысого… Про то, что никто ничего не читает, но каждый хочет написать книгу, у меня есть причудливая байка. Как снег на голову. Рассказать?
— «Снег на голову» — это всегда «приятно», — сказала Бела.
— Первое время на ТВ, если мне были нужны первоисточники, я отправлял Любу, мою ассистентку, в Пушкинскую библиотеку (откуда она приносила, позарез необходимые для работы, десяток книжек). Потом она сказала: на фига ходить в Пушкинку, когда у нас есть своя библиотека? Где, удивился я. В левом крыле, на первом этаже, там, где находятся киномонтажные, ответила она. Отлично, думаю я и отправляюсь посмотреть, что это за библиотека такая «у нас» на ТВ? И, на самом деле, в левом крыле на первом этаже нахожу дверь со скромной вывеской: «Библиотека. Работает с 9.00 до 18.00». Дёргаю за ручку — чёрта лысого: дверь на замке. Дёргаю (с дикой яростью) вторично — и вырываю с корнем ручку, не «без шума и пыли». Из соседней двери выбегает девушка киномонтажёр (которая хорошо знает меня и которую отлично знаю я) и, оценив ситуацию, улыбается:
— Библиотекарша бывает в 9.00, когда снимает верхнюю одежду, и в 18.00, когда одевается, чтобы идти домой.
— Здравствуйте, я — ваша тётя, — говорю я, — интересное кино.
— Никакого «кино» нет. Тебе надо в библиотеку? Дуй в буфет. Там найдёшь рыженькую такую, с веснушками, бальзаковского возраста, очень даже ничего себе. Можешь флиртануть по пути. Особые приметы: сегодня она в платье с таким декольте (мужикам нравится), которое не скрывает кружевные обрамления чёрного бюстгальтера. Короче, ты её увидишь. Её рабочий день — это точить лясы в буфете: мне бы так впахивать «в поте лица»!
В буфете я легко нахожу рыженькую (по кружевам, которые мужикам нравятся).
— Какой мне смысл торчать в библиотеке, когда никто за книгами не приходит? — спрашивает она. — Газеты я подшиваю. Картотека в порядке. Изредка (могу поклясться на Библии) берут материалы партсъездов и пленумов. Но очень-очень редко.
Мы вместе отправляемся в её книжные владения. На мой взгляд, там томов тысяч пятнадцать, не меньше.
— Девятнадцать тысяч, — поправляет она меня.
Я роюсь в картотеке. Обнаруживаю там немало достойного внимания. (Например, «Катехизис еврея в СССР», изданный для служебного пользования.)
Через какое-то время (не в кипиш) мы с рыженькой стали друзьями (без служебных романов).
Так я стал единственным читателем библиотеки нашего ТВ.
— Роскошно! Нет слов, — сказала Бела. — Как соль на рану. Про «без служебных романов» напоминает липовые бредни.
Алма-Ата и все, связанное с ней, представлялось теперь, в 1997 году, не иначе, как из другой жизни.
И дымящиеся почти на каждом углу мангалы, и аппетитные запахи жареной баранины на тлеющих саксаульных углях. И сам шашлык на алюминиевых шампурках стоимостью в 25 копеек за штуку (к мясу обязательно подавался хлеб и лук, нарезанный большими кольцами, уксус, соль, перец). И заснеженные вершины Тянь-Шаня, которые можно было наблюдать из окна и зимой, и летом. И моя сумасшедшая работа, от которой не было покоя ни днём, ни ночью. И наша с Белой квартира, превращённая, по словам жены, «в проходной двор», и неизменное место для ночных посиделок, когда вино лилось рекой и разговорам не было конца. И мой вечный дефицит времени.
Всё это было из другой жизни. Из другой и далёкой.
— У тебя на всё хватает времени, — возмущалась тогда жена, — на всё, кроме для семьи. Ты даже нашёл время, чтобы испоганить нашу входную дверь. Не без помощи, конечно, твоих «калек» — собутыльников.
В той, другой жизни Бела всегда старательно выговаривала вместо слова «коллега» слово «калека». Для неё два эти разных слова стали иметь одну смысловую нагрузку.
Да, Эпопея с входной дверью — это что-то!
Идея «реставрации» входной двери нашей квартиры стала результатом коллективного творчества (Борьки Левитина, Кости Куратова, Генки Морева и других наших «калек»).
Сначала кто-то (не припомню, кто) принес холст с копией картины Шишкина «У калитки»: на первом плане — разумеется, калитка, а за калиткой — дремучий лес, как символ опасности и тревоги. Сюжет, короче говоря, известный.
Копию картины мы укрепили в середине нашей входной двери, со стороны квартиры. Боря, приняв в тот день (насколько я помню) лишний стакан портвейна, сформулировал концептуальную особенность такого решения следующим образом:
— Если город считать лесом, то за дверью нас, то есть — нашу, «искалеченную» женой Макса, компанию, подстерегают непредвиденные страшные Страшилки, называемые жизнью..
Зачин получился интригующим.
Левитин продолжал:
— Так вот, там, значит, за дверью — «лес», здесь — мы. И мы не можем обойтись без вылазок туда, за дверь: это — охота! это — добыча! это — пища! это — азарт! это, в конце концов, одно из условий нашего существования. Но только лишь возвращаясь из «леса» назад, за «калитку», мы можем чувствовать себя в безопасности!
Даже Аякс, наш буль (флегматичный участник наших посиделок) застыл, внимая левитинское откровение: массивную морду с горбинкой на носу поднял вверх, уши — торчком.
— Вот-вот! — заметила Бела. — Собака и та — в состоянии аффекта.
— В состоянии эйфории! — поправил её Борька. — А что? Аякс в наших рядах!
— А Макс? — уже откровенно издевалась жена, имея в виду нашего кота.
— И Макс в наших рядах! — подтвердил Левитин. — А что?
— А ничего, — ответила холодно она.
Прошел день, прошла неделя, прошёл месяц и копия картины Шишкина словно вросла в дверь. Будто была там всегда.
Однако этим дело не закончилось.
Вокруг картины стал образовываться коллаж из цветных фото гламурных фотомоделей, вырезанных из дорогих глянцевых журналов; наклеек-вкладышей из жевательных резинок; в общем, из всего, что попадалось нам под руку. Таким образом, каждый из «калек» стремился внести в рождающийся на глазах метафорический коллаж свою лепту, чтобы наиболее точно (с его субъективной точки зрения) обозначить признаки мiра той системы ценностей, находящихся по ту сторону двери-калитки.
Через самое короткое время на двери, снизу доверху, не осталось ни одного свободного сантиметра. От такого информационно-насыщенного обрамления копия «У калитки» только выигрывала. Она (вдруг!) наполнилась таким глубинным смыслом, что сам Шишкин пришел бы в растерянность.
— Ну, вот, я же говорил: там — «лес», здесь — мы! — подвел итог Левитин.
— Ну, да, — согласилась Бела, — с дверью-калиткой не какой-нибудь, а именно нашей.
Борька парировал:
— Двери дверям — рознь!
(Нашей двери, значит, повезло больше, чем другим?)
Жена не стала спорить.
Когда мы оставались одни, она жаловалась:
— Палкой их, «калек» твоих, не выгонишь из дома. Что? У нас мёдом намазано? Или квартира резиновая? Или холодильник из коммунистического завтра?
Её не столько злило, сколько приводило в бешенство, когда в полночь (ладно, я — сова, ночной человек, жена — совсем не ночной!) раздавался телефонный звонок и голос из трубки вещал:
— Гостей принимаете? Минут через десять будем на месте!
Конечно, собирались не всегда обязательно у нас. Ни Куратов, ни Левитин, и никто другой не прочь были принять гостей у себя. И они их принимали. Однако чаще собирались (почему-то) у нас.
Жена никогда открыто и вида не подавала, что не в восторге от постоянных ночных визитёров. Но, как правило, в самый разгар наших посиделок, уходила спать. Уходила по-английски.
Бывало — мы засиживались чуть ли не до утра. Оставляли для сна часа три-четыре — хватало ведь! Засиживались, хотя следующий день у всех был расписан по минутам.
Ночь давала возможность временно отключиться от всего, что было в дневной жизни, и приносила с собой особенное ощущение комфорта. Поэтому, может быть, у ночного времени был иной, более неспешный и глубокий отсчет времени.
Бывало — приходилось кого-нибудь размещать на отдых до утра. И не обходилось без курьёзов.
Как-то пришлось оставить на кухонном диванчике Женю Лубышева. И вот в тишине ночи (с какой это радости?) он запел. Запел громко, зычно, с чувством: «Ох, мороз, мороз! Не морозь меня…»
Утром, за завтраком, спросили:
— Пел? Сознавайся!
— Я? — растерялся он, не последний из партчиновников в ЦК республики. — Да, быть такого не может: не надо на меня наговаривать!
Не сознался. Хотя в свидетели можно было призвать жильцов соседних квартир. Те бы охотно рассказали о концерте в ночи. Значит, заспал. Или, вообще, голосил во сне, не помня того сам. Тем не менее, больше Евгения Евгеньевича и насильно нельзя было оставить до утра, в каком бы он «уставшем» состоянии не находился: такси к подъезду и домой, только домой.
Казусов в те достопамятные времена хватало. Казусов милых, безобидных, трогательных. Взять, хотя бы, нашу столовую посуду: пару чашек из кофейного сервиза (того, что подарили нам на свадьбу) разбил г-н Главацкий, а вот добрую половину хрусталя ручной работы (из любимого Белой набора бокалов) приговорил г-н Чемелюк, а вот (необычной формы) супница из столового сервиза, который нам обошёлся в кругленькую сумму, на счету г-на Богомолова, которого мы, глупо шуткуя, называли Богомольцевым.
После очередного «раз-боя» жена «смиренно» замечала:
— Ну, все! С завтрашнего дня у нас на столе будут алюминиевые ложки, тарелки и кружки: как в тюряге!
И она была права. Частые гости, кроме всех прочих приятностей, давали нам бесконечные поводы для визитов в магазины.
Нынче это зовётся шопингом!
(«Смешной» случай с Лубышевым.
Сижу я у себя в редакции. Вместо того, чтобы заниматься делом, через «не могу» строчу ответы (по существу) на письма трудящихся, пришедшие после моих эфиров. На полу, рядом с моим стулом, стоит полмешка таких посланий в конвертах, с канцелярскими пометками: входящий номер — такой-то, дата поступления — такая-то. (Мешок этот стандартный, почтовый, из особой, прочной бумаги, полметра в высоту. Ведь была же такая «страсть» у советского человека — письма писать в газеты, журналы, на ТВ, в исполкомы, в обкомы, в ЦК.)
Не отвечать (максимальный срок — месяц) было нельзя — должностные инструкции обязывали.
Звонит Женя. Говорит, чтобы я срочно забежал к нему на десять минут: завтра будет поздно. Есть материал — застрелиться веником!
Я отнекиваюсь: не сейчас, не до сенсаций (сыт ими по горло), дел невпроворот. Он настаивает. Ладно, от ТВ до ЦК пёхом идти пару минут, за одно проветрюсь: почему бы не покалякать ради отдыха?
У Лубышева на столе лежит карта: и ради этого мне надо было «срочно» бросить все дела?
— «Ради этого»! — настаивает он.
Рассматриваю карту. Все надписи иероглифами. По-китайски. И что?
— Смотри внимательнее! — выходит он из себя.
Я начинаю «въезжать в тему». На карте красным цветом обозначена территория Поднебесной: сам Китай, Монголия, наш Дальний Восток, Сибирь (до Уральских гор), Казахстан.
Выясняется, что эта карта — не липа. Из надёжных источников, под грифом понятно каким.
Китайцы планируют вдолгую, на столетия вперёд. Действительно: застрелиться веником!
— Публикуем? — предлагаю я. — Шуму будет — выше крыши. Кто с радостью возьмёт это — есть варианты. Это будет не Алма-Ата.
— Москва? Чтобы пошумнее вышло?
— Гонорар поделим по-бандитски: 50 на 50. По рукам?
Женя смеётся:
— Сегодня опубликуешь? Отлично! Завтра без работы останусь я. А послезавтра — ты.
Мы ещё немного покуражились на этот счёт, и разошлись с миром.
Преуморительный ералаш: в смысле — путаница, когда всё шиворот-навыворот?)
Кто только не перебывал у нас в гостях.
— Если всех собрать вместе, — подтрунивал над Белой Левитин, — всякой твари будет по паре.
— Это просто страшно представить! — язвительно соглашалась она.
Увы, наша теплая компания не ограничивалась «скучной» телевизионно-журналистской братией. В ней (невероятным для жены образом) оказывались и кочегары, и безработные художники, и кого только не было.
Что тогда объединяло нас? Кроме, разумеется, общего застолья?
Как-то, уже в Минске, было далеко за полночь. Я сидел за письменным столом, заканчивая что-то срочное.
Жена, одетая в длинную шёлковую ночнушку, подкралась бесшумно сзади, обняла за плечи, шепнула на ухо (со словечками на манер Борьки):
— Хоть бы одна б… позвонила! Помнишь, как раньше?
Да, я помнил. Я хорошо это помнил.
Телефонный аппарат (который непредсказуемо трезвонил в любое время суток в Алма-Ате!) стоял здесь же, среди моих бумаг, на столе. Он молчал.
В Алма-Ате у нас был телефон-трепальник (от слова «трепаться»). В Минске у нас был телефон-молчальник (от поговорки «долго молчали, да звонко заговорили»).
Разные телефоны нужны мiру. (Как и разные люди.)
Бела лютой ненавистью ненавидела (в той, другой жизни) не только наши посиделки, но и мою работу: ни выходных, ни проходных, ни праздников.
А если всё это дополнить командировками и непрерывными телефонными звонками незнакомых жене людей (часто — с женскими голосами), то получалась картина маслом: какой-то жуткий («не имеющий аналогов») кошмар! Кошмар и днем, и ночью.
То ли было дело, когда я работал в газете. Тихо. Спокойно. Рабочий день тоже был ненормируемым, но не до такой же степени, как на ТВ!
Я старался объяснить:
— Дорогая, телевидение — это, как велосипед: пока крутишь педали — едешь, перестал — упал.
— Это, по-твоему, — отвечала жена.
— А по-твоему?
— По-моему, телевидение — это большой-пребольшой публичный дом. Бордель!
И если перед моим уходом на ночной монтаж (а такое бывало частенько, когда моя неготовая киношка стояла в завтрашнем эфире и требовалось срочно довести её до ума), подвёртывалась маленькая Миланка и спрашивала ангельским голоском:
— Ма-а! А ска-уку мы бу-им сё-ня ти-тять?
Мама (вся хмурая, как грозовая туча, «Dunkle Wolke») отвечала:
— А вот завтра утром наш папка с работки придёт и сказочку нам всем и расскажет!
«Кошмар»! Сплошной кошмар.
И деньги в семье (вроде как) перестали играть хоть какое-то значение. Когда их не хватало, они что-то значили. Стало хватать (бывало — с избытком) — перестали что-то значить. Будто они появлялись из ничего. Будто у нас был собственный станок (как у ФРС): надо деньжат — подпечатали.
То же было и с жильем.
Когда жили в однокомнатной нашей первой квартирке и родилась Мирослава — стали ощущать некоторую стеснённость. Не задыхались, конечно, но некий дискомфорт появился. И тут же мы (как бы само собой) обменялись на двухкомнатную, с доплатой — в те-то советские времена.
Родилась Миланка — опять ощутили неудобства. Обменялись снова (ещё раз, как бы само собой) с доплатой, в более модненький райончик Алма-Аты — и забыли обо всём. Обставились мебелью, купили дорогущую по тем временам собаку, белого бультерьера, нашего Аякса.
(Что ещё надо, чтобы достойно встретить старость в окружении задорных внуков и очаровательных внучек?)
Жену, как зациклило:
— Собака — на мне! Дети — на мне! Дом — на мне! Гости — на мне! Всё — на мне!
Я спросил:
— Дорогая, может быть, нам родить третьего?
Жена с сарказмом:
— Или третью… девочку?
Обиды, недомолвки, подозрения… все они теряли свою значимость, когда мы оставались вдвоём, когда больше никого рядом не было, кроме детей, посапывающих в своих кроватках в соседней комнате. И (тогда) общей радостью становились мои «ненавистные киношки», которые надёжно закрепились в эфирной сетке. И даже не закрепились, а вросли в неё: кто бы захотел — не выбил. И (тогда) общей радостью становились увеличившиеся в размерах гонорары. А гонорары (по тем-то временам) были ой-ёй-ёй: меньше пяти-шести сотен в месяц не выходило, больше — да. В «Автомобильном транспорте», в первой моей редакции, где я начинал, о таких деньгах можно было и не мечтать.
Простой приличненький автомобильчик в те «трудные» времена, за железным занавесом («страшным и ужасным») стоил где-то тысяч семь.
Теперь, в Минске, между нами не стояла ни моя работа, ни мои непутёвые друзья.
Теперь с женой мы были неразлучны, как сиамские близнецы.
Бела встала с кресла. Оглядела комнату. Подошла к письменному столу, где в беспорядке, сикось-накось, лежали книги. Выбрала среди них томик Паустовского. Открыла его, и тут же прочла:
— «Удивительна всё же судьба многих первых книг. „Разбойники“ Шиллера написаны где-то под лестницей, прекрасные стихи Бёрнса — в шотландской хижине с такими узкими окнами, что сквозь них едва просачивался свет, многие рассказы Чехова — на подоконнике в бедной московской квартире, сказки Андерсена — в дешёвых номерах провинциальных гостиниц».
Я ответил:
— Судьба многих первых книг не удивительна: они не могли быть созданы в иных условиях — внешний антураж всегда вторичен.
— Он не «вторичен», — уточнила Бела, — он не принципиально важен. — Потом она рассмеялась. И продолжила: — Паустовский тоже так считает: «Эти убогие жилища озарены в нашем представлении светом молодости и таланта и кажутся нам великолепнее самых красивых и величественных дворцовых зал». Как (замечу попутно) и эти «царские покои» из двух комнат, которые нам сдала за 50 долларов Нина Николаевна и которые стали нашим временным домом в Минске, на расстоянии 144 километров от Бобруйска.
— И в которых не нашлось места для Мирославы и Миланы, — уточнил я. — В остальном — да, настоящая идиллия.
— Idyllium в переводе с латыни — это «картинка», «небольшое изображение»: тёплый домик, занесённый снегом по самые окна, где царит вечный уют и вечный покой… Похоже? — спросила она.
— Sehr schönes Bild, — «угрюмо» согласился я.
Уже спустя годы, когда нас, «искалеченную компанию», пораскидало кого куда (по всем континентам и частям света) открылось вдруг нечто поразительное: а ведь не было места на Земле, где бы мы жили более изолированно, чем в Алма-Ате, за той дверью-калиткой. И более защищённее от разных напастей.
Дружба и предательство, профессионализм и непрофессионализм, любовь и ненависть, успех и зависть… — всё это всегда существовало и сосуществует вместе, где-то рядом, почти неразрывно одно от другого. Мы наблюдали это на чужих примерах, не на своих. (Не повезло?)
В Алма-Ате существовали мы и существовал внешний мiр, в который мы (как в разведку) совершали плановые вылазки, чтобы потом скорее нырнуть назад, как в некую безопасную пространственно-временную зону.
И наши проблемы с проблемами внешнего мiра стыковались мало.
Такое впечатление, что внешний мiр и мы существовали параллельно, чуть ли не автономно. (Возможно ли это?)
Нас всё устраивало? Нет. Больше было такого, что категорически не устраивало. И не могло устраивать. Однако нарушать веками устоявшееся равновесие (неравновесие) черного и белого в мiре, снаскоку изменять то, что вступало в противоречие с нашими принципами, не возникало никогда.
Наивных таких желаний, как совершить «мировую революцию» — не было. И не могло быть.
Проблема самореализации? Не существовало и такой проблемы.
Познавая мiр — мы познавали себя. И познавая себя — мы познавали мiр.
И было движение. (Или фикция движения?)
Но тогда жизнь била ключом. Сейчас что-то произошло. Что? Изменился мiр? Нет. (В главном он остался прежним.) Произошли какие-то другие поломки? Где? В конкретно какой части механизма мiроустройства?
Может, пришли в негодность какие-то важные узлы в конструкции наших «Я»: выработался их предусмотренный ресурс и требуется немедленный капремонт?
А запчастей, чтобы заменить изношенные в хлам детали на новые, надёжные и долговечные, нет.
И могут ли они (эти запчасти), в нашем конкретно случае, быть?
Через считанные секунды — снова телефон: звонки короткие — междугородний!
Борька забыл что-то договорить? Жена выхватила телефонную трубку прямо у меня из-под носа: не зевай.
— Алло! Алло! Говорите!.. — И через мгновение уже более ровно, но всё же с нотками радости в голосе (умиления): — Алма-Ата? Костя, ты? Салам!.. И тебя — с наступающим!.. Что с Максом? Он здесь, рядом: лежит пластом… Не пьян, тьфу ты. Ничего, говорю, не случилось.
Теперь Бела говорила совсем спокойно:
— Почему лежит? Спроси сам. Передаю Максу трубку.
Надо же, как совпало: сначала — Борька, не успели опомниться — Костя: сюрприз за сюрпризом.
Куратов был одним из немногих, кто не снялся с места, а остался в Алма-Ате. Несмотря ни на что. Решил на собственной шкуре испытать то, что было очевидно в прогнозах. Что ж, каждому — своё. Как он там?
При последнем разговоре, год назад, Костя говорил, что рулит новой радиостанцией, ориентированной на музыку. И намекал с иронией, что есть, мол, некоторые «объективные» трудности.
И Куратов, как и Борька, с места — в карьер, и мысли опережали слова:
— Что это там Белка: сердце-сердце! Ему «не хочется покоя»? Загулял чертяка?! Сознавайся! Как это было в 1976-ом, когда после вступительных в универ ты не соизволил явиться на собственное зачисление? — произнёс, как вопрос-шутку из Прошлого, Костя. — Так?
Шутка не состоялась, потому что мне пришлось ответить по существу, как есть, из Настоящего: я — в положении классическом, ручки на груди, не хватает свечечки.
(Зато Бела, так, чтобы это было слышно только мне — тоже по существу — откомментировала:
— А ведь Костя попал в «десятку». Да, 1976 год — это реперная точка, критерий отсчёта в движении из Настоящего в Будущее. А скольких их было — этих реперных точек — в нашем Прошлом? Наверное, не одна. И не две. И не три.
Никогда прежде она не пользовалась этим выражением «реперная точка».
Даже захотелось спросить:
— Это, по-твоему, тоже самое, как, принятая за критерий отсчёта, температура в 99,975 градусов по Цельсию, при которой вода закипает?)
А Куратов, тем временем, продолжал:
— Ах, так не сердце, а сердечная недостаточность? Ты меня совсем запутал. Я тебя не узнаю. Давай, лучше о другом, а то и мне давно пора веревку мылить. Шучу, шучу, шучу! И не шучу.
Чувствовалось, что и для этого разговора времени — в обрез. У Бори отщёлкивали шекели, у Кости — тенге. Схема разговора тоже была похожей: приедешь — не приедешь? приеду — не приеду? а хотелось бы, как хотелось! И чтобы было, как прежде — достархан с мантами, огромное блюдо с дымящимся шашлыком, рядом — зелёный лучок, петрушка, укроп, отдельно — фруктики, дыньки, персики, и ведро — не меньше! — портвейна.
Когда я положил телефонную трубку на аппарат, мы с женой переглянулись: такова жизнь, они — там, мы — здесь, а раньше нам хорошо было вместе.
Мы живём, и почему-то живём в уверенности, что идём по жизни. Да-да, идём, а не ведомы.
Мы уверены, что идём самостоятельно. И шагаем в точном соответствии со своей волей. Нелепый, наивный самообман.
Если не валять дурака: мы идём, потому что ведомы.
Вопрос: кем ведомы? и почему ведомы?
Еще в школе, когда учились в десятом классе, меня и Куратова иногда путали:
— Вы (часом!) не братья?
Мы не спорили: конечно, мы — братья. Хотя наша похожесть состояла в одном — в одинаково-возмутительной длине волос. В длине антишкольной и антисоветской.
В Алма-Ате, как и на территории всего СССР, бушевала пандемия битломании!
Юные обожатели ливерпульской четверки собирались в подворотнях (и не в подворотнях — тоже) и без конца крутили на магнитофонах с бобинами «Любовь нельзя купить», «Леди Мадонну»… Поклонники Битлз были гонимы школой, гонимы родителями. Впрочем, одно дело — втихаря заслушиваться английскими «жуками», совсем другое — отпустить, как у настоящих битлов, волосы. Мы, Куратов и я, позволили себе это.
Может, это обстоятельство, большей частью, и вводило в заблуждение спрашивающих нас:
— Вы (часом!) не братья?
Битломания была настоящей катастрофой!
Методы, изобретаемые для борьбы с носителями вируса, часто были малоэффективны, иногда — не эффективны вовсе. Длинноволосиков вылавливали в школе с ножницами. Родители вели своих отпрысков в парикмахерские. А волосы отрастали вновь. И вновь это вызывало бурю негодования. Хорошо, что не додумались до более радикальных способов, как-то — скальпирование, или — отсечение голов: тогда волосы точно не отросли бы. Спасибо КПСС и лично Леониду Ильичу, что не дошло до этого. Спасибо за пластинки Битлз, которые сначала выпускались «Мелодией», а потом летели в мусорные вёдра. Спасибо за плакаты и фотографии битлов, которые уничтожались всеми возможными способами.
Родители Куратова (и мои тоже) скрипели зубами, но не устраивали показательных истерик по поводу возмутительно-модной страсти по Битлз.
Школьные учителя не скрипели зубами, а действовали, используя все возможные и невозможные методы воздействия на неокрепшие умы своих бестолковых учеников. Правда, не в нашем случае: против лома — нет приёма. Директору школы, разъярённому нашей неслыханной наглостью (мы относились к замечаниям учителей так, словно их не слышали), Куратов так прямо и сказал:
— Да, я на вас в партком напишу. В суд подам: вы мешаете мне быть похожим на Карла Маркса! Я, вот, ещё бороду отпущу.
Что больше напугало директора — угроза судом или напоминание об авторе «Капитала», было не ясно. Тем не менее, короткая Костина речь охладила пыл школьной инквизиции. От нас отстали. Нас перестали замечать (превентивный ответ), будто мы не существовали вообще.
Свою роль здесь сыграло и то обстоятельство, что с успеваемостью у нас всё было в порядке. Больше того — одинаковую и хорошо известную учителям слабость мы питали к математике, пользующейся в те времена особенным почетом (если по математике было «пять», то и по другим предметам не составляло особого труда получать отличные оценки).
От математики (скорее всего) исходили истоки другой нашей слабости — к шахматам.
— Как думаешь, брат? — спрашивал я. — Партейку — другую?
— Всегда готов! Как пионер! — тут же отзывался Куратов.
И мы шли ко мне. Почему ко мне? У Кости не было своей, отдельной комнаты. У меня была.
Был у меня и магнитофон, и записи Битлз, от которых исходили — пьянящие нас! — магнетические флюиды.
Мои апартаменты с единственным окном, выходящим в сад, на втором этаже старенького, довоенной постройки дома больше походили на келью — узкую, длинную и мрачную.
Чтобы попасть в неё, следовало пересечь всю квартиру, потом выйти в тёмный, без единого светильника, коридор, по обе стороны которого располагались кладовки (там хранились наши соленья-варенья и другие припасы), потом пройти этот коридор, и только после этого упереться в дверь моей кельи.
Подслеповатый Куратов частенько открывал эту дверь лбом.
Обставлена моя келья была, соответственно, по-монашески.
У окна стоял крепкий деревянный стол, рубленный одним топором, и такой же стул. Чуть ближе к двери, справа — деревянная кровать, слева — во всю стену, от пола до потолка, занимали книжные полки (такой же грубой ручной работы — всё в одном стиле). Ещё ближе к двери — простой деревянный шкаф. Вот и вся обстановка.
Мало оживлял аскетичность моих покоев огромный, зеленый — как лужайка! — ковер во всю стену, который висел над кроватью. Летом ветки с вишенками и черешенками заглядывали прямо через подоконник, внутрь. Даже в солнечный день здесь было чуточку мрачновато. Свет поглощала буйная зелень деревьев за окном. Свет поглощали тёмно-зеленые, с золочёным теснением, обои на стенах.
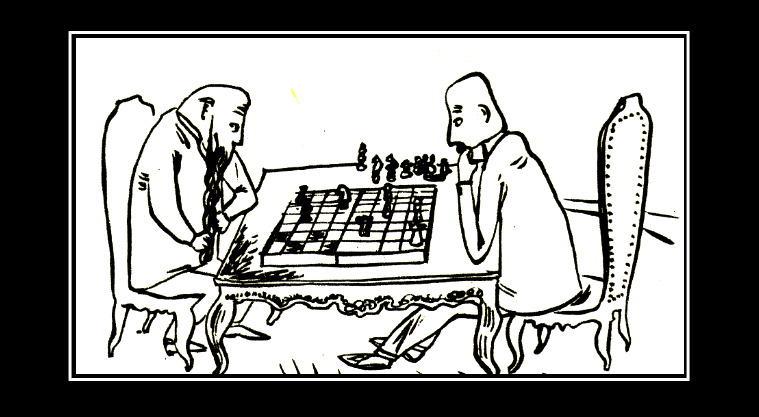
И была ещё одна важная и необъяснимая особенность моей кельи — в её пределах находилось некое безпыльное, озоновое пространство, где хорошо дышалось.
И ещё — сюда не проникали никакие посторонние звуки. Мои монашеские площади были словно изолированы, как от остальной части родительской квартиры, так и от внешнего мiра. Здесь мы могли сутками, молчком, сидеть, склонившись над доской из 64 чёрно-белых клеток, и без конца двигать шахматными фигурами.
Шестнадцать моих фигур в начале партии, шестнадцать — Костиных. Потом соотношение с обеих сторон менялось: у меня — больше, у Кости — меньше; у Кости — больше, у меня — меньше. Если партия заканчивалась, мы расставляли фигуры в исходное положение и следовал классический, как первый крик новорожденного, ход Е2 — Е4.
С возрастом от шахматомании, невзирая на Костину и мою занятость, мы не избавились.
Чем становились старше, тем сильнее нас тянуло сесть за шахматную доску с шестнадцатью фигурами, стоящими напротив шестнадцати фигур противника. В ходе поединков нас интересовала одна-единственная «пустяковина» — выделение общего и повторяющегося в различных комбинациях защиты-нападения, нападения-защиты.
Мы условились не допускать в игре случайностей. Ошибки (стечения обстоятельств) в расчет не брались. И браться не могли.
Зная наизусть сильные и слабые игровые качества друг друга, из партии в партию мы отслеживали те самые неуловимо-эфемерные закономерности развития и завершения каждой схватки. Мы кропотливо изучали, просчитывали, почему, к примеру, ход черного коня на С4 после блестящей атаки белых в центре доски вызывал мат белым ровно через семь (не через восемь!) ходов. А если конь не уходил на С4, мат можно было вообще избежать, и свести партию к ничье.
Партия заканчивалась — начиналась следующая…
Много позже, когда мы обзавелись семьями, наши исследовательские турниры не прекратились. Изучение закономерностей вечной черно-белой войны продолжалось.
— А что, если… мы вернемся на три хода назад и пойдём другим путем? — спрашивал Костя.
— А если… третьим путём? — шутил (и не шутил) я.
— А если… сотым? — шутил (и не шутил) он.
Как и прежде, Куратов захаживал ко мне. Но теперь уже не в мою келью — родители к тому времени жили в Бобруйске, а в мой кабинет, в наших с Белой апартаментах.
Рядом с доской стояли две рюмочки с коньяком и тарелочка с ломтиками лимона, посыпанными растворимым кофе с сахаром. И, как и прежде, нам никто не мешал. Мы, как и прежде, могли сражаться сутками. Жена смотрела на нас, как на недоразумение, которое не имеет объяснений.
Иных ассоциаций мы не вызывали.
Иначе, как мистикой, нашу шахматоманию было не объяснить: какая-то сверхъестественная сила приковывала нас к доске из 64 черно-белых клеток.
Через лет двенадцать-тринадцать после школы, когда я уж давненько не пользовался общественным транспортом, угораздило меня проехаться на троллейбусе. На обыкновенном троллейбусе, который двигался по проспекту Абая в сторону микрорайонов.
Куда я ехал? По каким не срочным (срочным) делам? Или вовсе без всякого дела? Нет, этого не помню.
(Может, я хотел почувствовать разницу между моим Настоящим и моим недавним (или «очень давним») Прошлым, когда у меня не было никаких служебных авто? и телевизионные РАФики на улицах воспринимались не иначе, как микроавтобусы, которыми пользуются особые люди? Смешная, комедийная ассоциация.)
И вот стою я на задней площадке троллейбуса, и вижу среди пассажиров строгую сухонькую старушку, которая во все глаза смотрит на меня. Да, это была она, Дина Михайловна, наша математичка. Она первой узнала меня. И завалила вопросами:
— Макс, это ты? И без длинных волос? Где ты? Как ты? Что делаешь? Чем занимаешься?
Я спросил:
— А телевизор вы разве не смотрите?
Нет, телевизор она не смотрела. Недосуг ей смотреть телевизор. И газет она не читала. Как не читала при коммунистах, так не читает и теперь, при демократах.
Не-пародоксальный парадокс: из всех знакомых (и незнакомых) Дина Михайловна была единственным человеком, кто не знал, кто есть я.
Наша математичка даже мысли не допускала, что я могу стать тем, кем я стал.
— Телевидение? — в полной растерянности переспросила она. — Журналистика?.. — В глазах её уже не было знакомого жизнерадостного блеска, была скорбь: держась сухой рукой за поручень, передо мной стоял теперь человек, который тщетно пытался осмыслить нечто непостижимое, и нечто глубоко трагичное.
Направляясь к выходу из троллейбуса, она не улыбнулась мне, и не сказала дежурное «пока!», а только сказала напоследок:
— Ты меня разочаровал.
Да, я разочаровал нашу математичку. (Хорошо было бы, что только разочаровал.)
Я умер для неё в тот самый день, когда мы через двенадцать лет после школьного выпускного бала случайно встретились в троллейбусе.
(Если бы этого не произошло, Дина Михайловна продолжала бы жить в галлюцинациях?)
Надо ли было разрушать её представления на мой счет? Я мог запросто сказать, что преподаю математику в университете. Я мог намеренно соврать, чтобы выглядеть в её глазах человеком здравствующим, живым. (Сделало бы это её счастливее?)
В представлении нашей Дины, я, состоявшийся репортер, редактор, режиссёр, телевизионщик — безоговорочный мертвец. Поскольку моё Будущее для неё всегда ассоциировалось только с физматом, и, конечно, с блестящей математической карьерой, и ни с чем другим.
Я растоптал её представления о том, что есть нормальное в этой жизни, и что есть ненормальное. Угораздило же меня в тот день прокатиться в троллейбусе.
Жизнь — та же шахматная партия…
Я по-прежнему на диване в положении классическом: руки на груди (не хватает свечечки).
Бела, закутавшаяся в плед до подбородка, в кресле, рядом со мной.
— Что есть наше Прошлое? Иллюзорная субстанция… — сказала не громко она. — Такое впечатление, что то, что было вчера, не было.
— Было, — ответил я. — Прошлое, по Оруэллу, надо контролировать (чтобы оно было). Контролируя Прошлое, мы контролируем Будущее.
— «Отличное» суждение, один в один по Грибоедову: «свежо предание, а верится с трудом». Прелестное у нас образовалось предпраздничное занятие — с улыбкой до ушей пройтись по высказываниям великих…
— Оптимистов или пессимистов? — поинтересовался (чуть съязвив) я.
— И тех, и других. — Бела не услышала мой безобидный сарказм. — Я полагаю, что нам не помешает включить в программу нашей вечерней посиделки тему о реперных точках Прошлого. Ты хочешь спросить: о каких конкретно точках? — Она внимательно посмотрела на меня.
— Хочу.
— Таких, как лето 1976-го, о котором напомнил Костя. Как ноябрь 1982-го. Или ноябрь 1983-го… Про ноябрь 1993-го тоже не помешает вспомнить. Нет?
— Тогда уж никак не обойтись и без лета 1974 года, — добавил я.
— Принимается. — Бела продолжала внимательно смотреть на меня. — Тогда вперёд в Прошлое, чтобы контролировать, по Оруэллу, Будущее. А что там за крамола такая случилось летом 1974 года?
Было около полудня, когда я неспеша шагал вверх по улице Жарокова.
Алма-атинское июльское солнце палило нещадно. Тротуар раскалён так, что хотелось снять туфли и идти босиком.
Я дотянул бы до ближайшего магазина, где можно было утолить жажду лимонадом, но зашёл в фойе двухэтажного здания, которое образовалось по левую руку, не обратив внимания на вывеску с правой стороны от дверей.
Около автомата газированной воды стоял офицер без кителя, без галстука, в расстегнутой на пару верхних пуговиц рубашке. Выпив стакан, он вновь наполнил его и тут же осушил одним глотком.
— Бог троицу любит, — сказал я.
Газировка с сиропом стоила три копейки, без сиропа — бесплатно: достаточно нажать на кнопку. Офицер нажал указательным пальцем на бесплатную кнопку.
— Какие не по возрасту остряки объявились у нас, — ответил с улыбкой он, осушив третий стакан.
— Не по возрасту? — удивился я. — Мне пятнадцать лет!
— Неужели так много? — удивился теперь и он.
После чего мы зацепились языками, и завязался разговор. О жаре на улице Жарокова; о том, что я (сам не ведая, куда меня занесло) нахожусь в редакции газеты «Боевое знамя» Среднеазиатского военного округа; о том, что передо мной — завотделом литературы и искусства майор Звягинцев; о том, что мне приходилось бывать в ситуациях и похлеще сегодняшней.
— Неужели «похлеще»? — по-актёрски изумился майор. — Например?
— Например, когда моим собеседником был Ярузельский (тот, что Войцех). Это было в Легнице, где по воскресеньям можно было наблюдать, как польские девочки шли в костёл на первое причастие: их одевали, как невест, в белые платья… Ещё — когда случилось познакомиться (тоже в Легнице) с Гречко (с тем, что министр обороны). Ещё — когда мы вели долгие разговоры с Жуковым.
— Тем, которого зовут Георгий Константинович? — рассмеялся Звягинцев.
— Точно! — не рассмеялся в ответ я. — Кто Вам об этом доложил?
— Сорока на хвосте принесла!
После этого разговор перешёл на новый уровень. Поскольку языком молоть — не мешки таскать, майор предложил мне изложить на бумаге отчёты о моих, более, чем «странных», встречах. (Может, их и не было вовсе, взаправду?)
— Почему бы и нет, — ответил я.
— Почему бы и нет, — согласился он. И дал мне срок две недели на всё про всё.
Самый короткий рассказ у меня получился о Гречко — страниц десять на машинке. О Жукове — около двадцати страниц. Об Ярузельском — больше тридцати. То, что такие объемы не для газеты — я в спешке как-то упустил из внимания: азартное желание поскорее утереть нос майору было сильнее, чем прагматичный и холодный взгляд на реальность. Что печатает «Боевое знамя» (в каких объёмах, в каких формах) — я не знал тоже.
Через неделю (не через две) я пожаловал в редакцию с тремя рукописями, чем снова страшно развеселил майора.
— И это напечатают? — спросил я.
— Конечно, — ответил он, — ещё и гонорар выпишут. По первое число.
Итак, какой из трёх материалов отдать первым, думал я.
Чтобы уж было попадание наверняка и в самое «яблочко», я решил отдать самую большую рукопись. Кроме того, моё недавнее, ещё очень живое в памяти общение с Ярузельским в Легнице, где размещался штаб Северной группы войск (СГВ), при котором служил мой отец, было на грани фола, и это я считал достоинством моего отчёта, которое должно сразить Звягинцева наповал.
Министр обороны Польши частенько прилетал к командующему СГВ генерал-полковнику Танкаеву. И останавливался он в гостинице, от которой до штаба (500—600 метров) всегда ходил пешком. Этот отрезок был частью пути, по которому и я ежедневно гулял с немецкой овчаркой, никогда не пользуясь поводком: мой пёс идеально меня слушался. Это производило впечатление на всех, кто видел нас вместе.
Здесь-то мы с паном Ярузельским и «столкнулись».
Ему очень понравился мой «немец»: как легко мальчишка (то есть — я) справляется с такой серьёзной собакой — удивительно! Это было произнесено министром наполовину по-руски, наполовину — по-польски, с недвусмысленным намёком, что каждый сверчок должен знать свой шесток. При этом он взирал на меня (сверху вниз), как и подобает пану.
Я, не задумываясь, ответил (капельку по-хулигански) также: наполовину — по-польски, наполовину — по-руски. Это Ярузельским было воспринято, как вызов. И от кого? От какого-то руского школяра?
Маршал, стараясь не выдать своего раздражения, проговорил ещё более сложную часть на польском и простоватую — на руском.
Я ответил адекватно (предельно аналогично, как мне того особенно хотелось): простовато — на руском, с витиеватыми оборотами — на польском. Такова была увертюра моего рассказа об Ярузельском.
Центральной темой наших диалогов с министром обороны ПНР был фильм «Четыре танкиста и собака», который как раз шёл по телевизору. Очередную серию мы при очередной встрече и обсуждали, параллельно демонстрируя свои познания руского и польского языка: кто кого сильнее удивит, кто кого (по факту!) поставит на место.
Короче, из таких вот словесных дуэлей и состоял мой материал. А между ними были вкрапления-монологи о том, как Ярузельский воевал в Войске Польском, и, соответственно, расставлял все точки над i: что есть правда в «Четырёх танкистах…», а что есть полное klamctvo.
Почему я так складно «поливал-шпрехал» по-польски?
1. Так или иначе, мы, школьники, каждый день общались с поляками, когда после уроков не могли пройти мимо маленьких частных магазинчиков — склеп-ов, где всегда пахло свежеприготовленным кофе. Там мы покупали разные мелочи, вроде оранжада, жвачек, мороженого.
2. Так или иначе, мы частенько шастали-прохлаждались по «Малой Москве» — таким было второе название Легницы, где квартировались на время службы (не много — не мало) 40 тысяч военных и членов их семей, пятая часть населения города.
3. Не реже одного раза в месяц мы на уроках физкультуры играли в футбол со сверстниками-поляками (была такая договорённость между нашей и польской школой). Гоняя мяч, мы попутно пополняли запас польских слов (применимых на все случаи жизни), потому что при спорных моментах в игре говорить только на руском — было недостаточно.
4. В те времена я прочитал у К. Паустовского: «В Польше я часто чувствовал то трудно определимое состояние, какое в книгах мы называем „подтекстом“. Как будто существовали две Польши: совершенно реальная, повседневная и рядом с ней — иная, немного таинственная, полувидимая и полуслышимая». Врезались в память эти строчки.
Бела, удобнее устроившись в кресле, поправила плед, снова подтянув его к подбородку. И проговорила мечтательно:
— Про «сказки Андерсена — написанные — в дешёвых номерах провинциальных гостиниц». Он, Ганс Христиан, кроме всего прочего, сказал: «Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь».
— Приятная новость: моя Легница похожа на сказку? Это надо воспринимать, как «комплимент»?
— Нет, — ответила она, — это констатация. Так, что там произошло дальше в твоей сказочной «Малой Москве»?
В связи с футболом был такой случай.
В назначенный день армейский автобус везёт нас в польскую школу. Игра длится один урок — 45 минут. В конце матча мы, вроде бы, выигрываем, что являлось больше исключением, чем правилом. И на последних секундах забиваем победный гол. Поляки кричат, что был офсайд, требуют переигровки и добавленного времени. Мы стоим на своём: вне игры не было.
Выяснение отношений переходит в алогично-логическую потасовку: десять мальчишек с одной стороны, десять — с другой. Но длится она не долго: до тех пор, пока самому задиристому поляку, инициатору бучи, не разбивают нос. (Я от него во время стычки, насколько мне помнится, был далеко, на противоположном её краю).
Директриса польской школы, некстати оказавшаяся поблизости, видит это и закатывает истерику: покалечили ребёнка («чуть не до погибели»). Достаётся на орехи и нашему учителю физкультуры и учителю польскому, которые преспокойно наблюдали за дракой на бровке поля и не спешили вмешиваться.
Но этого мало — она по телефону сообщает о происшествии директору руской школы, требуя найти виновного. И строго наказать.
В итоге «на ковёр» вызывают (в который раз) моего отца: кто бы сомневался. Отец не возмущён — больше обрадован, что ему представится случай встретиться со Светланой Васильевной, моим строгим классным руководителем, с внешностью и манерами совсем не безобразными (скверными и уродскими), а наоборот.
В назначенный день и час он при полном параде, окружённый облаком запаха дорогого одеколона, появляется в школе. Но вот незадача: его беседа с педагогом (как и наша драка) длится не долго.
— Вы представляете… — начинает эмоционально моя классная, — на уроке физкультуры между поляками и наши обалдуями произошла драка. Да-да, настоящая хулиганская драка! Кто отличился — говорить надо?.. Вы представляете: одному польскому мальчику расквасили нос. До крови!
— Поразительное безобразие! — соглашается столь же эмоционально мой отец. И следом спрашивает то, чего спрашивать не следовало ни в коем случае: — У меня это тоже в голове не укладывается: и что — только «одному»?
— Разговор закончен! — обрывает его классная на полуслове. — Понятно: яблоко от яблони… Больше вопросов нет!
Вероятно, не в её вкусе оказался мой отец. В школу его больше не вызывали никогда.
Зато хохма эта быстро превратилась в анекдот, который передавали из уст в уста. В одних пересказах главным героем был отец, в других — я.
(Что-то я ушёл в сторону от темы про именитых знакомцев.)
Драматургия моего повествования об Ярузельском заключалась в том, что маршал (после того, как уяснил, с кем имеет дело) стал избегать встреч со мной, а я (нарочно) делал всё, чтобы на его пути к штабу нарисовался я, собственной персоной, с моим «немцем»: нашла коса на камень. Приблизительно такова была конструкция моей писанины.
Звягинцев, не заглянув в рукопись, бросил её в ящик стола, и сказал, чтобы я пришёл через пару дней. Через пару дней он попросил заглянуть ещё через пару дней. Через пару дней — ещё через пару дней.
Я понял — что-то здесь не стыкуется. Майор что-то не договаривает. Что? Тогда это было для меня загадкой, которую хотелось разгадать.
Сегодня для меня такой загадки нет: в своих отчётах я больше писал не о своих героях, а о себе.
Бела сказала:
— «Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь!»
Встречаясь с Гречко около гостиницы, где он обычно останавливался, я кричал издалека строго в соответствии с уставом:
— Здравия желаю, товарищ маршал!
Он отвечал:
— Здравия желаю, товарищ Вождь краснокожих!
Как и с футболом, и по этому поводу был такой случай. Неделю мы, четыре боевых школьных друга (исключая собаку), экономили на карманной мелочи, выдаваемой родителями, чтобы поднакопить денег на поход в польскую киношку: мы ожидали увидеть там (возможно, не вполне одетых) кинодив, погрузиться в атмосферу свободной западной жизни!
Остроту ощущениям придавало то обстоятельство, что это делалось втайне от всех, потому что по пути в кино мы могли (опять!) подраться с поляками (такими же мальчишками, как и мы), мы могли подраться и в самом кинотеатре. Запретное желание, однако, было сильнее.
И вот мы сидим в мягких и пыльных креслах не-нашего кинотеатра и поедаем вафельные трубочки, наполненные заварным кремом — вкус неописуемый! Рядом с нами — цивильные поляки: кто-то курит (здесь же, в зале), кто-то хрустит чипсами, кто-то без стеснений (на виду у всех) тискает подружку, а подружка в модных чулочках не против, чтобы её прелестями любовался не только её избранник, но и мы, случайные соседи.
Погас свет. На экране — первые кадры. Название фильма было написано по-руски: «Деловые люди». Режиссер Леонид Гайдай. (Где в последней части — экранизация новеллы О. Генри «Вождь краснокожих». )
Перед тем, как купить билеты в кассе, никто из нас не удосужился поинтересоваться: какой фильм сейчас будут показывать? тот, что на главной, яркой (затмевающей всё вокруг) афише с ослепительными красавицами, покорительницами зрительских сердец? Или, может быть, другой, от советского Гайдая?
Вот это мы сходили на не-наше кино, средоточие запрещённых искушений!
Не-наша публика не-нашего кинотеатра, затаив дыхание, смотрела наше кино.
Нашему разочарованию не было границ!
Кто-то из троих моих товарищей на следующий день проболтался про наш косяк и на наш поход за остротой ощущений стал байкой, над которой веселилась от души вся руская Легница. При пересказе она обрастала всё новыми и новыми (часто неожиданными) деталями.
Больше других потешался над нашим культпоходом подполковник Онищенко:
— «Призрак бродит по Европе…» — призрак «Вождя краснокожих»! — торжественно подвёл итог он: сказка ложь, да в ней намёк — приличным школьникам урок.
Конечно (я сильно сомневаюсь), что только этот случай помог министру оборону СССР дать мне такое имя. Я подозреваю, что к этому приложила руку и моя мать (она была начальником гостиниц СГВ, в её обязанности входили встречи и поселение высоких гостей, таких, как Гречко).
Про Онищенко, коменданта Квадрата, и про сам Квадрат, где размещался штаб Северной группы войск, придётся (иного варианта нет) рассказать отдельно.
Почему Квадрат назывался Квадратом? Потому что его территория геометрически имела такую форму. По периметру Квадрата — двухметровый железобетонный забор с колючей проволокой наверху. Рядом с забором на ночь выставляли на охрану овчарок.
Предыстория: до войны на этой (считающейся элитарной в Легнице) территории размещался штаб 18 дивизии вермахта.
В Квадрате, кроме штаба СГВ и гостиниц, размещались рота охраны, танковые боксы, подразделение связистов, коттеджи немецкой постройки, где жили полковники и генералы, стадион (с двумя кортами для большого тенниса, с баскетбольной и волейбольной площадкой, с мини-полем для футбола, где в зимнее время заливался каток для хоккея, с небольшим уголком, где стояли гимнастические снаряды и где по утрам делал физзарядку я), продуктовый магазин, полки которого изобиловали всякими деликатесами, книжный магазин, где (без проблем) можно было купить «вкусности» для домашней библиотеки — «Незнайку на Луне» Носова, «Землю Санникова» Обручева и «Час быка» Ефремова, и многие другие книжные «полезности» (в долгие зимние вечера у нас не было причин для скуки).
Вообще, Квадрат в Легнице был, как отдельный город в городе, являясь олицетворением образцового порядка. Мощёные брусчаткой улицы всегда были безупречно чисты, на тротуарах я ни разу не увидел ни одного фантика от конфет, ни одного окурка, ни одной обгорелой спички. Безукоризненной длинны была зелёная трава на газонах между проезжей частью дороги и тротуаром.
Поддерживал, обеспечивал этот образцовый порядок (и отвечал за него) комендант Квадрата подполковник Онищенко.
Я, в глазах коменданта Квадрата, напротив — являлся олицетворением разрушения образцового порядка. Потому что организовывал сумасшедшие гонки школьников на велосипедах. Потому что подбивал друзей гонять футбольный мяч на дорогах. Потому что устраивал метание в цель зелёными грецкими орехами (один из них попал однажды, по недоразумению, в подполковника Онищенко). Потому что гулял с собакой без поводка и намордника. Потому что все эти «страшные» преступления я совершал на центральной улице, ведущей к штабу, когда сытые полковники и генералы после обеденного перерыва возвращались на службу.
Был такой смешной случай: как-то раз мой «немец» резво рванул за генералом Широбоковым, замом командующего по тылу, и, поравнявшись с ним, «сказал» по-собачьи «Здравия желаю!». Генерал забавно подпрыгнул «от радости», как мячик. А когда пришёл в себя — только посмеялся («Какая псина симпатичная!»), и никаких претензий мне не предъявил. Зато Онищенко считал святым долгом накапать на меня отцу. И капал он по любому поводу и без повода.
Отец не устраивал мне головомоек нотациями за мои «страшные» прегрешения.
— Неужели тебе сложно баклуши бить со своими хулиганами в другом месте? — спрашивал он.
— Не сложно, — отвечал я, и клятвенно обещал «бить баклуши в другом месте».
Однако нас, «хулиганов», как магнитом, тянуло на место преступления.
Под «хулиганами» подразумевались три моих школьных друга и мой «немец» (полная аналогия с «Четырьмя танкистами и собакой»). Находясь под впечатлением от популярного фильма, мы изо всех сил старались быть похожими на его героев — Янека, Густлика, Григория, Томаша. И, конечно, хотели превзойти их в реальной жизни своими «подвигами». (Походом в польскую киношку уже превзошли. И не только этим походом.)
Появлению у меня собаки предшествовала предыстория, которую тоже не рассказать никак нельзя.
Я долго досаждал отцу, что хочу иметь настоящего, породистого «немца». Отец, предчувствуя, что ничего хорошего от этой затеи не выйдет, искусно (изобретательно) оттягивал сделать обещанный мне подарок. Я продолжал настойчиво требовать щенка. Отец пошёл на принцип: как я могу что-то хотеть, если толком не знаю элементарного: как и чем кормить собаку, как её воспитывать? ни он, ни мать заниматься этим не будут категорически. Других забот хватает.
— Почитай книжки — для начала! — про собак, про их питание, — поставил условие он, — а там — посмотрим.
В библиотеке мне подготовили стопку литературы. Из неё я выбрал самые тонкие брошюрки. (И попутно решил узнать, как правильно питаться, когда занимаешься спортом, поскольку серьёзно занимался спортивной гимнастикой.) Через недельку я отчитался перед отцом: книжки проштудированы, самое время отправляться за щенком. Отец устроил мне настоящий экзамен, засыпав вопросами. Экзамен я выдержал.
Мать, наблюдавшая за нашим противостоянием, и тоже не очень желающая, чтобы в доме появился пёс («от которого — шерсть, запах»), вынесла не очень устраивающий её (но справедливый) вердикт: выхода нет — надо выполнять обещанное.
Щенку я дал имя Шарик. Как в фильме «Четыре танкиста…»
— Кто бы сомневался, — сказал отец.
— Надеюсь, что танк с бортовым номером 102 и надписью «RUDY», нам не понадобится? — улыбнулась мама. — Для полного счастья!
— «Почитаем книжки… — сказал я, — а там — посмотрим».
— Ага, — согласился отец.
Восемь месяцев я ходил в офицерскую столовую за сырым мясом. На тёрке, выданной отцом, готовил витаминные добавки из овощей. Восемь месяцев родители ни разу не возмутились, когда обнаруживали пожёванный туфель или «живописные» обломки пластмассовой расчески для волос (и много других «красивостей», превращённых в таковые моим сообразительным щенком). Они крепились и не подавали вида, когда Шарик в прихожей разбегался и катался на ковровой дорожке, собирая её в гармошку, повторяя этот цирковой финт по нескольку раз на дню. Отец ни разу не упрекнул меня, что по утрам ему приходится гулять с собакой. Гулять вместо меня.
Это обстоятельство особенно «веселило и нравилось» родителям.
Ровно в пять часов Шарик просыпался и шёл ко мне в комнату. Сначала он садился напротив кровати и терпеливо ждал моего пробуждения: утро настало! Потом он пару раз предупредительно и негромко тявкал, и выжидал какое-то время, после чего брал в зубы край одеяла и одним движением отправлял его на пол. Иногда я просыпался, иногда — переворачивался на другой бок и продолжал спать, без одеяла. Во втором случае, Шарик шёл в спальню родителей и проделывал те же самые операции. Отец на автомате поднимал одеяло с пола, чтобы продолжить самый сладкий утренний сон, но не тут-то было: Шарик лихо стягивал одеяло опять. Отцу ничего не оставалось, как подчиниться желанию моего пса — начинать день с прогулки на свежем воздухе.
Не очень помог просыпаться мне утром, вовремя, и огромный будильник, купленный специально родителями: иногда с вечера я забывал завести его.
Подошёл срок сделать собаке прививки. Отец сказал, что по пути («как-нибудь») он отвезёт Шарика в роту проводников-собаководов, которая за городом. Вопросов у меня не возникло: надо — так надо. Прошёл день, другой. Прошла неделя.
— Где Шарик? — спросил я.
— Его скоро привезут, — ответил отец, рассчитывая, что постепенно я свыкнусь с мыслью, что лучше жить без собаки, чем с собакой. — Может, с прививками — какая проблема: что-то сделали, а что-то — нет? Не знаю подробностей.
Ещё через одну неделю — ровно в пять часов утра! — нас разбудил требовательный собачий лай, который не услышать было нельзя.
Открыв входную дверь, мы увидели Шарика, который сиротливо сидел в паре метров от нас, как бедный родственник. Он сбежал из питомника, куда отвезли его на машине. (Как сбежал — вопрос.) И, преодолев расстояние в пятнадцать километров, непонятно каким образом нашёл путь назад, домой. (Как ему это удалось?)
Мама чуть было не разрыдалась.
Пёс продолжал сидеть на месте, поворачивая голову то вправо, то влево. Бросаться к нам в объятия он не спешил.
— Коль вернулся домой — значит, не будь, как в гостях, — сказал отец.
Шарик резво вбежал в прихожую и — на радостях! — собрал в гармошку ковровую дорожку в прихожей.
После этого случая я больше не забывал заводить будильник с вечера, когда в 21.00 ложился спать. И каждое утро в 5.00 отправлялся на прогулку.
Днём я продолжал гулять с собакой без поводка и намордника. А комендант Квадрата продолжал ябедничать на меня отцу. И длилось это до тех пор, пока я не столкнулся на улице, ведущей к штабу, с Гречко.
Здесь надо изложить всё по порядку. Во-первых, я знать не знал, что этот, под два метра ростом маршал, и есть тот самый министр обороны СССР. Во-вторых, он первым заговорил со мной, когда увидел, как Шарик молниеносно выполнил команду «ко мне», хотя секунды назад он носился чёрте где.
— Вот это послушка! — восхитился он. — А что вы ещё умеете?
— Мы знаем команду «фас», — сказал я, заметив, что вдалеке маячит фигура Онищенко. И крикнул: — Фас!
Шарик рванул в сторону коменданта.
— Ко мне! — крикнул я.
Шарик резко развернулся, и скоро уже сидел у моей ноги.
— Вот это послушка! — повторил маршал. — А что ещё вы умеете?
— Нарушать образцовый порядок! — ответил я. — Причём, образцово его нарушать. Об этом Вам подробно может доложить подполковник Онищенко! Он обожает делать такие доклады.
Вряд ли министра обороны сподобило выслушивать по этому поводу коменданта. А вот с начальником гостиниц СГВ (моей матерью) он (разумеется) потолковал о том, о сём. И она (не вокруг, да около, а по-армейски) живописала ему все мои «подвиги». В том числе, и о те, что были связаны с занятием спортом. Поэтому в следующую нашу встречу Гречко начал с вопроса по существу, чтобы тут же взять быка за рога:
— Спортивная гимнастика — это серьёзно? Или так — потому что все ходят в какие-нибудь секции?
— Не знаю, — ответил я, как на духу. И задал встречный вопрос: — А участие в олимпийских играх — это серьёзно?
— Ого! Твоя цель — стать олимпийским чемпионом? Citius, altius, fortius?
— Utique! Verum verum!
— Так хорошо знаком с латынью? — сказал он. — Мой совет: пора теперь переходить к стратегии и тактике, как одолеть противников. Есть версия, что большой спорт — это война. С самим собой — в первую очередь.
После этого мы подробно разобрали все последние победы наших гимнастов, поговорили также о технических тонкостях выполнения фляков, сальто, пируэтов в акробатике, «солнышка» на перекладине, «креста» на кольцах. Неизвестно сколько бы мы ещё проговорили, если бы на горизонте не появился адъютант Гречко: значит, министра обороны в штабе СГВ заждались. И мы распрощались.
Итак, почему обратил на меня внимание министр обороны и почему состоялась дружба с ним? 1. Благодаря Шарику. 2. Благодаря моей причастности к спорту.
Если бы не сбежал из питомника мой «немец», если бы не было моих занятий гимнастикой — не видать мне в собеседниках маршала, как собственных ушей.
Что ещё было в моём отчете про Гречко для «Боевого знамени»?
Что-то мимоходом, вскользь — по поводу армии, как таковой (в НАТО и в СССР). Что-то по поводу плюсов и минусов службы в небе, на флоте, на земле (где — лучше, где — хуже). Что-то по поводу перспектив выпускника военного училища стать министром обороны (за железным занавесом и у нас), и про многое другое, что сегодня стёрлось из памяти.
Не стёрлось из памяти впечатление от общения. Если Гречко был простым собеседником (без понтов), который не тяготился на равных говорить с малолетним хулиганом и нарушителем порядка, то с паном Ярузельским было всё в точности наоборот.
— Следующий на очереди у нас маршал Победы Жуков? — улыбнулась Бела.
С Жуковым я познакомился при иных обстоятельствах: лучшие сюжеты рождаются не за письменным столом.
Гостиница №25, в которую никогда и никого не заселяли, была единственной в Квадрате, огороженной по периметру высоким бетонным забором. На её территории имелся огромный яблоневый сад. Вот оно — лучшее место, где заниматься с собакой, вместо того, чтобы постоянно доводить до состояния белого каления Онищенко.
Об этом мне (без театральных подковырок) намекнул отец после очередной жалобы коменданта: зачем в тихом омуте будить чёрта, если с ним можно покончить тихо?
Смехотворно-правильный постулат, подумал я, достойный, чтобы взять его на вооружение и применять его (от случая к случаю) в виде исключения из правил.
Шарику сад понравился, мне — тоже. Здесь спокойно можно было отрабатывать команду «фас». Случайных прохожих нет, никого до смерти мы не напугаем. Это подтвердил и солдатик-кинолог, обещавший мне прислать фигуранта в ватном костюме опасного неприятеля. А пока его нет, я мог показывать рукой в направлении (предполагаемого) врага своей собаке и кричать «фас». Шарик срывался с места, пересекал сад, и, не обнаруживая, кого следовало порвать, как грелку, прыгал с лаем на забор. Потом он галопом возвращался назад и получал кусочек сырого мяса.
Как-то за завтраком мама сказала, что у неё сегодня крайне хлопотливый день — она будет заселять гостиницу №25, поэтому я — ни в коем случае! — не должен там появляться, ни сегодня, ни завтра, а, может, и неделю.
— Gut? — спросила она, поставив на стол яичницу, приготовленную на маленькой чугунной сковородке.
— Dobrze, — ответил я, не придав услышанному особого значения. — Sehr gut.
И, конечно, в одно моё ухо влетело, в другое — вылетело: я начисто забыл об утреннем предупреждении, когда после уроков в школе, как обычно, отправился в гостиницу №25. Привычка — вторая натура!
Шарик носился из конца в конец яблоневого сада, отрабатывая лакомство, когда металлическая дверь открылась и я увидел входящую в ворота группу генералов, во главе которой был невысокого роста маршал. Это был Г. К. Жуков (о чём я узнал позже).
Мать, выглянув из-за его спины, погрозила мне крепко сжатым кулачком.
Мой «немец» рванул в сторону непрошеных гостей. Гости застыли на месте, как вкопанные. Я отдал команду:
— Ко мне!
Шарик на полпути смешно затормозил, как в мультиках, и со всех ног понёсся назад, чтобы получить причитающееся ему мясцо за примерную службу. Лакомство он тут же проглотил, не жуя, и сел у левой моей ноги, готовый выполнить следующую команду.
В шоке были все присутствующие, кроме маршала. Он отделился от сопровождающей его группы и пошёл навстречу мне. Следом за ним двинулся командующий СГВ генерал-полковник Танкаев, друживший со мной, как с признанным Вождём краснокожих Квадрата, и прекрасно знающий Шарика. (Позже я узнал, что говорил о Магомеде Танкаеве, фронтовике, орденоносце, Расул Гамзатов: «Он никогда не улыбался, чтобы кому-то понравиться, никому не поклонялся. Поклонялся перед Родиной… Он с солдатами — солдат. С генералами — генерал». В Легнице я знал только, что он — в дружеских отношениях с Жуковым, ещё с войны.)
— Георгий Константинович, это — наши люди, — ровным голосом, с едва заметными нотками иронии, проговорил командующий СГВ. — Ситуация штатная, всё под контролем.
— Вижу, что под контролем, — ответил маршал. — А какие оценки у «наших людей» в школе?
Я сомневался: надо ли мне отвечать?
— Не очень, — произнесла осторожно мать. — По поведению — твёрдая «двойка».
— То, что твёрдая — это не плохо. Это больше, чем хорошо. А по предметам?
— Оценки отличные. «Четвёрок» нет. Пока нет.
— «Наши люди», — улыбнулся маршал. — Перед сном врач прописал мне прогулки. Приходите вечером — будем гулять вместе. Хочу познакомиться ближе с Шариком и с его хозяином-двоечником.
Последовала пауза — конфузная, зловещая. Я не знал: надо ли мне отвечать? или лучше — промолчать? Мать опять погрозила мне кулачком.
— Конечно, товарищ маршал, — ответила она за меня, — конечно.
— Вот и договорились.
Дома я получил хорошую взбучку за то, что уже натворил (и авансом за то, что натворю в Будущем), и приказ — в 19.00 быть, как штык, в саду гостиницы №25.
Неделю я гулял вечерами по яблоневому саду вместе с маршалом.
Его действительно (не ради красного словца) интересовало, как мне удалось вырастить такую идеальную, крепкую собаку. Я ответил, что всё дело — в питании.
В памяти были свежи книжки, прочитанные на эту тему. Животных надо кормить сырым мясом, сырыми овощами и кашами (лучше — перловкой), которые не следует переваривать. А человека, спросил он. Тем же, ответил я, за исключением мяса. А белок, спросил он. Белок — это аминокислоты, ответил я, питаясь мясом, человек нагружает свой организм, затрачивая колоссальное количество энергии для расщепления его на аминокислоты. Аминокислоты содержатся в достаточном количестве в зерновых, в овощах, в зелени. Зачем делать лишние усилия, поглощая котлеты и колбасы, как большинство живущих на Земле, когда те же самые полезности можно получить из других продуктов? Георгий Константинович согласился: незачем.
И, конечно, я не упустил возможности блеснуть эрудицией, рассказав (из тех же книжек) про Отто Варбурга, немецкого биохимика и физиолога. Про физику и математику (самое яркое и значительное, что знал) тоже не поленился поразглагольствовать. А на закуску перечислил имена философов, учёных, писателей, спортсменов, которые были чистыми вегетарианцами.
— И хулиганами? — спросил маршал.
(Позже мама мне сказала, что у Георгия Константиновича была последняя стадия сахарного диабета. Отсюда его интерес к проблеме питания.)
В ответ на мои откровения, Жуков поделился своими откровениями: о Сталине, которого Хрущёв смешал с грязью; о том, что армию сегодня превращают в бардак; о том, что для фронтовиков война не закончилась в 1945 году — война продолжается.
— Как это понять? — спросил я. — Если война продолжается — где враги, атаки, взрывы?
— Подрастёшь — поймёшь, о чём я говорю, — сказал он. — Для этого не надо иметь сто пядей во лбу.
Да, так оно и случилось: я подрос и понял, о чём говорил маршал Победы. Сто пядей во лбу, действительно, не понадобились. И стали видны и «враги», и «атаки», и «взрывы».
Это коротко-коротко о том, что я изложил в своих отчётах для «Боевого знамени».
А, вероятно, что-то важное и упустил.
— Как песок сквозь пальцы? — спросила Бела. — Почему ты раньше об этом ничего не рассказывал?
— Не знаю. Возможно, считал это не столь интересным.
— Так, тебя напечатали?
Через неделю я пришёл в редакцию узнать, как обстоят дела с моим рассказом об Ярузельском.
Звягинцев, стараясь выглядеть строго и невозмутимо, сообщил, что с ним познакомился не только он один.
— Кто ещё? — удивился я.
— Все. Начиная от редактора газеты Скачкова и заканчивая корректором, — прежним холодным тоном ответил он, после чего не сдержался: — Ржала вся редакция! Ржали все! Все до одного!.. Если бы среди нас был Салтыков-Щедрин — он бы тоже порадовался от души! Так мастерски выставить на посмешище пана Войцеха — это надо уметь, это надо постараться! Он так лихо ставит тебя, юного и наглого руского оккупанта Польши, на место, а ты ещё более лихо отвечаешь ему на своём польско-руском наречии: bardzo dobrze. Да, напечатай мы такое — вышел бы форменный международный скандал: «Боевое знамя» очернило светлый образ министра обороны ПНР! Глядишь, поляки объявили СССР новую войну, и рванула бы на Москву Речь Посполитая, как это было 1610 году — это во-первых. Во-вторых — таких объёмов текст газеты не публикуют, здесь одним номером не обойтись. Газета — не литературный журнал! — сказал он. — Про наших маршалов у тебя — в том же ключе?
— Сholera wie, — ответил я, и вручил майору свои рассказы о Жукове и Гречко: какой смысл тянуть кота за хвост — не надо будет лишний раз приходить в редакцию.
Через неделю я заявился к Звягинцеву, и с порога спросил:
— Гоготала вся редакция?
— Поголовно, — ответил майор. — Я, к примеру, прочитал с превеликим удовольствием, как Вождь краснокожих устроил ликбез самому Жукову, рассказывая ему про Циолковского, Филимоненко, Челомея: прям, как профессор — студенту.
Чем закончился наш дальнейший — не без гоголевского насмешливого огонька — разговор вокруг моих сочинений?
Звягинцев, заговорчески подмигнув мне, сообщил, что персонально для меня он придумал рубрику (для последней полосы газеты) «Читатели о книгах». Писать 10 — 20 — 30 — 50 страниц категорически не надо. Объём — не больше полутора страниц на машинке, что равняется ста строкам в газете. Попалась в руки интересная книжка: почему бы не поделиться впечатлениями о ней? Это, конечно, не о личных встречах с маршалами писать, но для «Боевого знамени» — как раз то, что надо, и не менее актуально.
Первое, что я сделал — это (не мудрствуя лукаво) перелистал «Воспоминания и размышления» Г. К. Жукова. Вспомнил, как он рассказывал мне про «настоящего Сталина», а не того, каким его выставляют сегодня, где «полная брехня подменяет правду». Но писать об этом я не стал. Свои мемуары маршал Победы посвятил советскому солдату. Свой материал я назвал также: «Советскому солдату посвящаю». Майор пробежал по нему глазами, ничего править не стал и отправил в типографию, в набор.
Когда публикация состоялась, Звягинцев торжественно вручил мне десять экземпляров газеты и спросил, указывая на моё имя на последней полосе:
— Ты рад?
Я, не совсем понимая, о какой радости идёт речь, ответил:
— Да, не очень.
— Ты — ненормальный, — сказал майор.
За первую публикацию мне почтой пришёл гонорар — девять рублей 63 копейки. И понеслась душа в рай. По договорённости с редакцией, я должен был раз в неделю приносить новый материал. И я его приносил.
«Боевое знамя» находилось в километре от моего дома…
(Следом, за газетой САВО, образовалась на моём пути «Вечерняя Алма-Ата», за ней — Гостелерадио Каз. ССР.)
Я мог бы дотянуть до ближайшего магазина, где утолил бы жажду лимонадом? Мог. Но занесла меня нелёгкая в фойе редакции, где стоял автомат газированной воды. Не занесло бы — занимался бы я преспокойно математикой (которая любила меня и которой не всегда отвечал взаимностью я), а «не всякой фигнёй и сбоку бантик», по словам Дины Михайловны.
И не выглядел бы я — в её глазах — безоговорочным мертвецом.
— «Безоговорочным мертвецом», — повторила задумчиво Бела. — Интересно, как бы увидела тебя на этом диване твоя математичка сейчас?
За окном, как по нотам, завывал ветер, выстраивая фантастическую мелодическую линию.
Могу ошибаться, подумал я, но Дина Михайловна увидела бы «на этом диване» живой труп. Труп, который стал трупом давным-давно. Труп, который (по непонятным причинам) продолжает есть, пить, дышать: жить.
Во всеуслышанье говорить о своих «замудрённых» размышлениях у меня желания не было (даже мысли не возникло).
— Оптимистическая версия… — сказала Бела.
Мы внимательно смотрели друг на друга: не пора ли нам перейти на новый тип общения, когда не надо произносить слова вслух, когда не надо артикулировать звуки?
(Problema-guaestio: как услышала мои диванно-трупные аксиомы жена?)
Мистическая шахматомания; алма-атинский троллейбус и моя математичка; редакция газеты САВО и майор Звягинцев; польские девочки, одетые в белые платья, как невесты, которые шли в воскресенье по улочкам Легницы на первое причастие в костёл, и пан Ярузельский; комендант Квадрата подполковник Онищенко, Шарик и «Вождь краснокожих» в фильме Гайдая; командующий СГВ Танкаев, министр обороны Гречко и маршал Победы Жуков… — все эти совместимо-несовместимые события не увязывались (и увязывались) в единую цепь причинно-следственных связей.
Бела опять взяла в руки томик Паустовского. И на фоне того, что бубнил телевизор о главных новостях 27 декабря 1997 года, она прочла:
— «Хуже всего, конечно, писать по первому впечатлению. Тогда рисунок получается слишком резким, как сырая краска на холсте. Все выпуклости ещё сильно блестят. Они ещё не смягчены дымкой времени».
Я подумал: эти минские апартаменты, где мы «чудесным образом» застряли перед Новым годом, и то Прошлое, о котором не знала раньше жена, отделяет время (почти 30 лет). Это не первое впечатление. Почему они, эти давние истории (смягчённые дымкой времени), материализовались (словно, ни с того ни с сего) моей памятью сегодня. В честь какого великого праздника?
— Смешно, — произнесла негромко Бела, — и не смешно. Потому что, куда не глянь — везде «сто тысяч почему». Почему?

Чтобы внести какое-то оживление в наши вечерние посиделки (полежалки), я продекламировал (постарался сделать это предельно по-клоунски) Киплинга, в переводе Маршака:
— «Есть у меня шестёрка слуг,
Проворных, удалых.
И всё, что вижу я вокруг, —
Всё знаю я от них…
— «От них»? — поддержала мой тон Бела.
— «От них»! И не только «от них», — ответил я, и продолжил:
— Но у меня есть милый друг —
Особа юных лет.
Ей служат сотни тысяч слуг —
И всем покоя нет.
Она гоняет, как собак,
В ненастье, дождь и тьму
Пять тысяч «Где», семь тысяч «Как»,
Сто тысяч «Почему».
— Милые стихи, — сказала Бела. — Как нельзя более, к месту. А что ещё нашептал твой «друг — особа юных лет»? Расскажешь?
Проскрипели в коридоре половицы. Судя по звукам, это Нина Николаевна прошла из кухни в спальню: час поздний, пора спать.
— Ни за что, — ответил я. — Боюсь, это может нарушить идиллию: тёплый домик, занесённый снегом по самые окна, где царит вечный уют и вечный покой. Большинству нужна идиллия, как воздух.
— Не бойся. Идиллия (если она есть «воздух») не пострадает. Может, наша идиллия — это блуждание в потёмках…
— В потёмках чего? — не дал закончить фразу жене я. — В потёмках вечной лжи?
— Ну, да: что-то типа того, — ответила она.
— «Не думай, однако ж, что я пишу идиллию и тем паче, что любуюсь ею».
— В точку! И как удалось Салтыкову-Щедрину «украсть» эту фразу у тебя? И у меня?..
Страсть к моделированию ситуаций (как в шахматах — матовых, ничейных, патовых!) часто подталкивала меня к опытам в реальной жизни. Когда назад, в исходное положение, фигуры уже не поставить. Когда шансов исправить сделанные ошибки нет. Когда недопустимы черновые наброски — все пишется исключительно набело.
Полигоном для испытаний я сделал свою карьеру, свою работу. Я выстраивал концептуальную модель очередного проекта, просчитывая вероятность ошибок, которые непременно возникнут в процессе реализации. Загодя, я пытался свести к минимуму эту вероятность, после чего на спор (отчаянная самоуверенность) говорил кому-нибудь из «калек» по телевизионному цеху:
— Сейчас сажусь и пишу — с потолка! — сценарий. Тема — любая. Место действия — тоже. Пусть будет самая, что ни на есть, тьмутаракань, где не ступала нога пишущей и снимающей братии. Через неделю показываю смонтированный материал.
Риск был. Отправиться в неизвестный город — первый фактор риска. Без предварительной подготовки потащить в командировку съемочную группу минимум в пять-шесть душ, что стоило денег — это второй фактор. Недельный срок на съёмку, на перелёты, на монтаж, на озвучку — третий фактор.
В случае, когда объекты определены и есть расписанный по кадрам сценарный каркас, и в этом случае недельный срок — есть риск. А приехать, что называется, с корабля на бал — риск стопроцентный.
Первый раз, если решился на такого рода авантюру и не привёз из командировки ничего, высокое руководство, возможно, холодно промолчит, сделав вид, что ничего особенного не произошло. Второй раз, если сорвал эфир, публично пожурят, вспомнив твои старые заслуги. Третий раз, если ты снова выкинул деньги на ветер, уволят без комментариев и выходного пособия. И можно рассказывать потом в пивнушке (соседям по кружке!), какие высоты ты штурмовал прежде. После одного-двух литров пива тебе охотно поверят. И не только поверят — будут, вполне вероятно, по-приятельски похлопывать по плечу: ну, ты орел!
Тем не менее, мои авантюры (так получалось) не заканчивалась крахом. Командировки удавались. Материал привозился. Эфир не срывался. Споры выигрывались.
Местные «тьмутараканьские» журналисты, когда наполеоновские съёмки были завершены, и мы в моём гостиничном номере говорили про жизнь, попивая «Талас», нахраписто пытали:
— Как же так? У нас здесь, под носом настоящий Клондайк тем! Клондайк историй! А мы?.. Мы, выходит, опростоволосились, проморгали сенсации, которые были рядом? А ты, пройдоха алма-атинский, всё пронюхал. Или тебя кто навёл?
Я отвечал:
— Никто.
(Хотя следовало ответить по существу; например, словами Хемингуэя, когда он разъяснял репортёрам магию создания (рождения) повести «Старик и море»: «Не было ещё хорошей книги, которая возникла бы из заранее выдуманного символа, запечённого в книгу, как изюм в сладкую булку. Сладкая булка с изюмом хорошая штука, но простой хлеб лучше. Я попытался дать настоящего старика и настоящего мальчика, настоящее море и настоящих акул….» Другими словами: хотите увидеть вокруг «клондайки тем»? перестаньте врать себе (и другим), выстраивая конструкции историй, объединённых глобальной Ложью.
Если выразиться ещё проще: не-секретный секрет моих успехов также прост, как три советских рубля — не надо выдавать иллюзию за реальность, чёрное за белое, даже если это принято за правило большинством. Даже миллион навозных мух не убедят меня, что дерьмо — это вкусно.)
— Как так — «никто»? — На прямой вопрос мои коллеги хотели получить прямой ответ.
Я отвечал:
— Шахматомания.
На меня смотрели, как на человека, хватившего лишку.
По сути дела, секрет был не в спиртном. Была старая, со школы, страсть к математике, к моделированию ситуаций.
После куратовского звонка воспоминания нахлынули.
В комнате (несмотря на бубнёж телевизора) — звенящая тишина, не предвещающая ничего хорошего. Долгое затишье в природе заканчивается штормовым ветром.
О чём говорить? И без слов всё ясно.
Я нарушил молчание:
— А, может, рванём назад, в Алма-Ату: где наша не пропадала? Закатим с Костей пир на весь мiр. Потом я придумаю какое-нибудь выгодное дельце. И станем мы, как прежде, жить-поживать да добра наживать.
Мое предложение было встречено без энтузиазма.
— Только этого Максу (и мне, в том числе) и не хватает: наш пострел везде поспел! — ответила жена. В голосе — металл. — Очень «сильно» нас ждут-не дождутся в Алма-Ате: за четыре года там, я думаю, все глаза «проглядели и выплакали».
Бела (как и Левитин) была права: никто и нигде нас не ждет.
Второй раз в одну и ту же реку не войти.
Не могу (обстоятельства обязывают) не продублировать предупреждение М. Салтыкова-Щедрина: «Не думай, однако ж, что я пишу идиллию и тем паче, что любуюсь ею».
Что есть для Истории эти четыре года?
Они даже не секунда — мгновение. И даже не мгновение, а много-много меньше мгновения.
Воды за четыре года утекло немало. Вот и слово «Алма-Ата» больше не найти на новеньких, пахнущих типографской краской, картах мира. На его месте новое название — Алматы. И Алматы — уже не столица.
Прежней Алма-Аты нет. Нет того города, где всё (больше, чем всё) в наших делах получалось само собой. Будто Кто-то (неведомый и незримый) постоянно направлял нас.
Я смотрел на Белу. И понимал — любое напоминание об Алма-Ате отзывалось для неё болезненно. Так, как напоминает о себе застарелая рана.
Жену эта рана беспокоила особенно: в одночасье сменить благополучие и комфорт (а Алма-Ата ни с чем иным не ассоциировалась) на неизвестность Будущего и сомнительные перспективы — это что-то, да значило.
— Помнишь, что Тургенев сказал (словами своего героя) о разнице в логике мужчины и женщины? — Через паузу, уже без металла в голосе, произнесла она. — «Мужчина может, например, сказать, что дважды два не четыре, а пять или три с половиной, а женщина скажет, что дважды два — стеариновая свечка…»? Макс, тебе об этом «особа юных лет» разве не сообщила? Только, чур, без вранья!
— Конечно, сообщила, — ответил я. — Как говорят в народе: стой — не шатайся, ходи — не спотыкайся, говори — не заикайся, ври — не завирайся. Против правды не попрёшь.
Про напоминание мне «особой юных лет», что у кого-то — жемчуг мелкий, у кого-то — щи пустые, я говорить Беле не стал. Зачем?
— Мне бы ваши проблемы! — возмутилась по-свойски, по-доброму Нина Николаевна. — У вас что: детишки голодными-холодными сидят? Они сыты, обуты, одеты. От зарплаты до зарплаты, слава Богам, не тянитесь. Машина есть. Жилье есть. Если решите — и в Минске квартирку приличную купите. Чего вам ещё не хватает? Да, разуйте зенки-то свои! Всё у вас хорошо, горе вы луковое! Вот смотрю я и понять ничего не могу… — Н.Н. выразительно постучала указательным пальцем по лбу, — кому другому — дать то, что у вас есть: не жизнь — малина! Мудрёные вы какие-то: сами себе закавык понавыдумывали и носитесь с ними, как с торбами писанными. Ох, и потеха.
Пересказав этот нехитрый монолог, при котором меня не было, Бела спросила:
— А, может, Нина Николаевна права? Может, мы действительно с жиру бесимся? И с ума потихоньку сходим. Со стороны-то виднее?
Я ответил без сарказма. Но получилось так, что ответил, как отрубил:
— Разные люди нужны мiру.
Мудрее не придумать: «умник»!
Моя «крылатая» фраза, относительно «разных людей», всегда страшно раздражала жену. В данном случае, вообще — попала точно в «десятку». (А лучше бы она улетела в «молоко». )
Что я имел в виду, говоря о «разных людях»? Это была простая формула, которая означала следующее: наш мiр устроен так, что места в нём достаточно для всех. Потому что мiр не может быть неким рафинированным образованием. В действительности (де-факто) он устроен так, что в нём «гармонично» (не гармонично) сосуществуют господа и рабы, филантропы и убийцы, добродетель и проституция, и так далее. То же можно сказать о многоярусной профессиональной ориентации. Мгновенно вычеркни, к примеру, из жизни всех ассенизаторов и сантехников и мiр захлебнется в собственных фекалиях (к тому, собственно, дело и идет). Вычеркни, например, из жизни тех, кто доит коров, садит капусту, жнёт пшеницу, печёт хлеб, и наш мiр помрёт с голоду. Одни президенты (в изолированном виде), интеллектуалы, философы и мыслители разных мастей (в изолированном виде), банкиры, промышленники и купцы (в изолированном виде) не выживут. Все они востребованы только вкупе. Чтобы каждой твари было по паре. И тогда летопись «славных» дел человечества не оборвется на полуслове.
И ещё должен быть баланс: писателей — строго-определённый процент (не больше, и не меньше); не-писателей — строго-определённый процент (не больше, и не меньше); хороших-плохих, кучерявых-лысых, красавцев-уродов (и т.д., и т.п.) — строго-определённый процент (не больше, и не меньше). Всё в соответствии с нормой. (Кто эту норму установил? Или устанавливает? Этот guaestio для «всезнаек» оставим открытым.)
Если баланс нарушен — жди беды, скорой и неизбежной. И ничего уже не поправить. Ничего.
Тараканы-паразиты (всегда и по всем правилам Техники Безопасности) должны сидеть по своим щелям. Сидеть и бояться. И совершать свои набеги, когда гаснет свет в человеческом жилище. А если… будут созданы условия, когда они хлынут из всех дырок и будут торжествовать при свете дня (как это случилось, к примеру, после апреля 1985-го), всем остальным придёт скорый кирдык. И вся гармония (автоматом) трансформируется в хаос. В хлам.
(N.B: хаос в древнегреческой мифологии — это стихия, существовавшая до возникновения мiра, земли с её жизнью. (Близко к истине?) Употребив слово хлам, не хватил ли я лишку? Словарь Ожегова трактует хлам, как негодные старые вещи, бесполезное, рухлядь; в переносном смысле — то, что следует выбросить (из головы, и не только), как ненужное, ничтожное.)
Поэтому я и ответил:
— Разные люди, дорогая, нужны мiру.
— Вот как? — с откровенной издёвкой спросила Бела. — Любопытно было бы узнать: а мы находимся в какой из крайностей: наверху — среди господ? или внизу — среди холопов?
— Мы? — опешил я. Было, отчего опешить: нет ничего проще, как умничать (имитируя философствование) обо всём, в общем. Поэтому мне ничего не оставалось, как сказать: — Мы — ни в какой.
Фактически, мы не находились ни в какой из крайностей.
Мы не находились нигде. Потому что перестали жить. Потому что давно не живем. Мы существуем. По инерции. (Нам — это уже смело можно отнести к категории постулатов, -не привалит необыкновенное счастье ассимилироваться в «новых» землях: гусь свинье — не товарищ!) А проще сказать — мы вообще не существуем. Нас нет. Потому что мы не нужны нигде. И, судя по всему, нам уже никто не нужен.
Что я ещё мог ответить?
Кому, как не мне, было хорошо известно, что Белу (как женщину, как жену, как мать) никогда не интересовали аксиомы и философские формулы типа «разных людей»?
Её всегда интересовали конкретные мы: где есть эти «мы» и как эти «мы» устроены.
И главное было в том, что нам не в первый раз приходилось всё начинать с нуля. (Не в первый раз!) А это что-то, да значило.
А что: у Левитина — всё не с нуля?..
Марк Твен сказал, что «нельзя полагаться на собственные глаза, если воображение не в фокусе».
Салтыков-Щедрин выразился иначе: «ничем не ограниченное воображение создаёт мнимую действительность».
Я не мог представить себе ассимилировавшегося в новых землях Борьку в униформе (предположим) офис-менеджера… или торгового агента, или официанта питейного заведения с подносиком в руке — сорокалетнего дядьку с недельной небритостью, дикими манерами и пулемётными очередями: «Что желаете, мать вашу-перемать, господа хорошие?»
Нет, таким я не мог вообразить себе Левитина. (Может, у меня воображение не в фокусе? и я вижу действительность, которой нет?)
Да, он в первую же неделю распугал бы всех, с кем пришлось бы иметь дело.
А, может, он органичнее смотрелся бы в Кнессете (куда ему путь заказан)? Вряд ли.
Я также не мог представить себе Борю в роли дельца — респектабельного такого предпринимателя! — надзирающего за собственным мясным (предположим) магазинчиком, где за прилавком суетятся в идеально-белой спецодежде его подопечные: «Вам кило фаршика? Из мясорубки? Ща мигом провернём! А, может, свеженького филейчика?..»
Всё это (в моём представлении) не могло выглядеть правдоподобным.
Я мог бы (как в Алма-Ате) представить Левитина за режиссёрским пультом в студии. В принципе, это выглядело бы реально. Борька орёт в микрофон: «Первая камера — наезд! Вторая — на общем плане! Почему проблемы со звуком?..» И кофейная чашка, стоящая у него под рукой, летит на пол.
Только и за пульт в студии ему путь, по его словам, нынче заказан. Без него в Израиле хватает, кому сидеть за пультом: «в Израиле любят алию, но ещё больше не любят «олим».
— Это в Алма-Ате я был еврейской мордой, — хихикал по телефону Левитин. — А здесь я — руская морда. — Он сделал паузу. — Руская морда еврейской национальности! Бывает, что и руская свинья. Вот и вся разница. В Республике Казахстан должны жить казахи (по аналогии, что в Израиле должны жить евреи). А руские, где должны жить? Нигде?..
Но как-нибудь я всё же должен был представить Борьку, которого знал, как облупленного?
«Воображение правит мiром», считал Наполеон.
Я, скорее, мог бы увидеть Левитина за барной стойкой. Точно!
Он (в который раз) наливает в стакан водку, и делает глоток, якобы последний. Люся — рядом, и, в отличие от Борьки, трезва. Она готова привести Левитина в чувства, чтобы вернуть его к реальности любым предметом, который первым подвернётся под руку. Перед ней — бокал с соком, апельсиновым: может им и воспользоваться?
Вот это совершенно другая картинка.
Если не лепить горбатого: Левитин теперь, в Настоящем, оказался в том месте, где следовало оказаться? Боря сам ответил на этот вопрос.
А я свои шансы, которые мне были (случайно и не случайно) предоставлены, использовал, чтобы оказаться в том месте, где следовало оказаться?
Есть (гипотетическая) версия, что каждый йог должен сделать в жизни три вещи: 1. Проглотить дерево; 2. Родить наследника; 3. Посадить слона в позу «лотоса».
Если не впадать в алогичные иллюзии — все три вышеизложенных пункта мне удалось выполнить. (И выполнить «блестяще». )
— «Случайными кажутся события, причины которых мы не знаем», — улыбнулась Бела. — Твоя первая редакция журнала «Автомобильный транспорт Казахстана» — событие случайное? Это к вопросу о реперных точках.
— Здесь без вопросов: всё, что произошло в ноябре 1982 года, произошло совершенно «случайно», как и «планировалось», — улыбнулся в ответ я. — Всё в точности по Демокриту.
— Понятно: что и требовалось доказать.
Главный редактор журнала «АТК» Василий Яковлевич Захаров с минуту смотрел на меня, двадцатитрехлетнего молодого человека, молча.
(Позже я узнал, что Захаров был фронтовиком и участником Парада Победы на Красной площади в 1945 году. Также он мог (вполне возможно) быть знаком с Магомедом Танкаевым (почему нет?), с Жуковым — вряд ли.)
Было не понятно, что привлекло внимание Главного. Вряд ли его заинтересовал мой (вызывающе-безукоризненный?) внешний вид: распахнутое классическое пальто с поднятым воротником, широкополая классическая шляпа, белоснежный офицерский шарф на шее.
Эти шестьдесят секунд тянулись (по крайней мере, так показалось мне) угрожающе долго. Этого времени было достаточно, чтобы сообразить (раскумекать, в конце концов) — Захарова решительно не интересовали ни мои дипломы, ни мои рекомендации от редакции «Боевого Знамени», на которые он не взглянул.
Я начинал догадываться, что могло бы стать весомым предлогом проявить ко мне интерес — это имя. Доброго имени (как, впрочем, и не доброго!), которое бы было у всех на слуху, я не наработал.
Итак, я (улыбающийся непонятно почему и зачем) застыл у двери, не зная, куда деть мокрую шляпу, которую держал тремя пальцами левой руки, а Главный редактор журнала, выходящего в свет стотысячным тиражом, продолжал, ссутулившись, сидеть за необъятных размеров письменным столом, заваленным бумагами, и с недоумением смотрел на меня.
— Корреспондентское кресло… — нараспев произнес он, — у нас имеется… незанятое. Но!..
Под редакторским «Но!..» подразумевалось, что к завтрашнему утру у него на столе должен лежать мой материал о новом алма-атинском автовокзале: всё, разговор закончен, можно проваливать вон и приниматься за дело! а вы, как хотели?
(Позже я выяснил, что этот автовокзал был бельмом в глазу у властей городских, республиканских. По причине долгостроя.)
— Будет ли это репортаж, проблемная статья или фельетон — не имеет никакого значения, — сказал мне на посошок Главный. — Ни-ка-ко-го!
Значит, времени у меня — лишь полдня. Или целых полдня?
Не знаю, случилось ли что-нибудь неладное с наглой самоуверенностью, с которой я примчался в журнал, но из кабинета редактора я постарался выйти с достоинством…
Жизнь — та же шахматная партия.
Ровно два часа назад я и предполагать не мог, какими событиями взорвётся тот день, когда я, едва проснувшись, принялся за изучение толстой книжки под названием «Телефонный справочник г. Алма-Аты». В разделе «Газеты и журналы» «Автомобильный транспорт…» стоял первым. Поэтому, не напрягая себя дальнейшим чтением названий периодических изданий в алфавитном порядке, я набрал номер телефона. На другом конце провода мне ответили просто:
— Приходите через минут сорок.
— А почему не через сорок пять? — спросил я после того, как положил трубку телефона на аппарат.
Через сорок минут (оделся по-военному, как по тревоге, в парадно-выходные одежды — «портупея, кобура с пистолетом, сабля на боку», поймал тут же такси) я стоял в кабинете Главного.
Еще через пять минут я вышел за дверь, и тут же напялил на голову мокрую шляпу: рабочего времени у меня — четыре часа 30 минут. Ни больше и не меньше.
С одной стороны, я был волен поступить так, как заблагорассудится. (Например, дать задний ход: шли бы они все лесом со своим автовокзалом!) С другой стороны, я был неволен (зашла туча за Солнце!) в своем решении: сказал бы Главный принести готовую статью через два часа — я бы из кожи вон вылез, но принес бы через два.
На следующее утро мой материал объёмом в сто пятьдесят строк лежал на столе Захарова. В полдень Василий Яковлевич сухо поздравил меня:
— Вы зачислены в штат.
Таким образом, на выбор отправной точки своей карьеры у меня ушел ровно день.
Белые начали партию: королевская пешка сделала первый ход: Е2 — Е4…
Предполагал ли я, что всё произойдёт так легко и быстро? Нет, не предполагал.
Если тебе двадцать три года, когда энергии через край, (и ты не болен), об этом не думают.
Чего мне стоил материал о новом автовокзале в том (далёком) 1982 году?
Приехав в такси на объект (проявил оперативность) я обнаружил, что он (в принципе, формально) готов к торжественной церемонии открытия, хоть сейчас. Однако, облазив и исходив его вдоль и поперек, вымокнув под дождем до нитки, я с прискорбием уяснил — работать здесь ещё и работать.
Поскорее добравшись домой с тем, чтобы «сесть» на телефон, я лихорадочно думал: с чего начать? Вспомнил хитрую улыбку Главного. Старик неспроста сказал: «Пишите, что хотите! Хотите фельетон — пишите фельетон. Хотите репортаж — пусть будет репортаж. Хотите статью — сделайте статью. Ко-ро-че: как посчитаете правильным, так и сделайте — без разницы!»
Что хотел написать я?
Перекрестные звонки по инстанциям, которые отвечали за досрочную сдачу в эксплуатацию столичного автовокзала (а в те времена все сдачи были досрочными) привели меня в состояние легкого умопомрачения. Одни чиновники валили всё на других чиновников, и никто, значит, не был виноват. Никто! А автовокзал, как проклятый, завис. Почему?
— А потому! — напускал таинственности каждый из моих собеседников. Разве они могли мне, ещё не состоявшемуся сотруднику «АТК», сказать что-то другое?
Я понял: чтобы добраться до истины, понадобится минимум полмесяца, а не полдня. А времечко летело вперед, сокращая с каждой минутой отведенный мне срок.
И все-таки: что писать?
Я положил перед собой стопку чистой бумаги. В итоге не получилось ни фельетона, ни проблемной статьи, а получилось нечто такое, где было всё, что я видел и слышал, однако не было и тени безнадежности ситуации.
Захаров, просмотрев мой материал раз-другой, спросил напрямик, глаза в глаза:
— Так, вы всё-таки за кого: за волков или за овец?
Мне хватило наглости ответить:
— Больше того, что написано, мне сказать нечего.
Дальше повторились вчерашние шестьдесят секунд паузы.
Про себя я, стараясь сохранять внешнее хладнокровие, размышлял:
1. Согрешил ли я против истины? Нет.
2. Представил ли черное белым? Нет.
3. Недосказал ли то, что логически следовало из фактической стороны дела? Пожалуй, да.
4. Если допустить обратное, когда мной было бы представлено то, что не являлось открытием ни для кого: часть денег разворована, та же судьба постигла стройматериалы, а бездарность организации строительства увеличила продолжительность работ вдвое; причем, изначальной концепции реализации проекта не было вовсе? И что тогда? Отправил бы Захаров в печать мою писанину? Сомнительно.
5. А, если (вопреки здравому смыслу) это всё-таки произошло? Наверняка, бульдозер партийной идеологии размазал бы своими гусеницами и журнал, и Главного.
6. Что касается меня — я отделался бы легким испугом, но путь к доброму имени мне был бы заказан.
7. Пришлось бы Максу подождать лет десять, пока народу не объявят о — святая святых! — «Свободе Слова» (по Ельцину, в соответствии с методичками радио «Голос Америки»). А до тех пор пришлось бы походить в дворниках.
Василий Яковлевич, ссутулившись над письменным столом, ещё раз пересмотрел рукопись. С начала и до конца. С конца и до начала. В том числе — по диагонали.
— У вас оказались все сыты, — проговорил он ровно, без эмоций. И добавил после паузы: — И целы: ну-ну.
Что это «ну-ну» могло означать (похвалу? разочарование?), я понял, когда на доске объявлений увидел приказ по редакции: «Зачислить в штат „АТК“ на должность корреспондента…»
— Если серьёзно: я до сих пор не могу найти ответы на некоторые «пустяковые» вопросы.
— Например? — осторожно спросила Бела.
— 1. Почему я не наведался в редакцию «Боевого Знамени» (которая в 1974 году находилась на расстоянии километра от моего дома), чтобы спросить совета у майора Звягинцева: как быть с работой? 2. Почему я позвонил в журнал «Автомобильный транспорт…», о котором прежде знать не знал? 3. Почему по телефону мне ответил не секретарь и не рядовой сотрудник, что должно было произойти в 99,99 процентах из ста, а Главный редактор?.. С лёгкой руки Захарова и началась (вдруг!) моя карьера.
— «Случайная встреча, по Ницше, самая неслучайная вещь на свете», — улыбнулась Бела. — Может, на твои вопросы и ответы искать не надо? Есть такая поговорка: «Один дурак может задать столько вопросов, что на них не ответит и сотня мудрецов». Логичен вопрос: кому больше нужны «ответы» — единственному дураку? Или сотне мудрецов?
— «Ответы» не нужны только горбатым кретинам, — улыбнулся я.
— Вот как? Только им? «Меня привлекает ваш склад ума. Мы с вами похоже мыслим, с той только разницей, что вы безумны».
После апреля 1985-го «горбатыми кретинами» мы окрестили тех, кто стал вылазить на свет из всех щелей в государстве под названием СССР. Бела не могла этого забыть. Тем не менее, она устроила этот шутейный диалог: хотела развеселить меня? ей это удалось.
Итак, начало партии на черно-белой доске шахматной доске было положено. В ноябре 1982 года мне был дан шанс (по возможности грамотно, не горячась) разыграть её.
Положительный исход этой партии (то есть — карьера и благополучие) дался мне просто. И сложно.
Просто — потому что существовали устоявшиеся чёткие правила игры, определённые советско-коммунистическими порядками. Первый раз загляделся — потерял фигуру. Второй раз прохлопал ушами — потерял инициативу. Смог обойтись без грубых ошибок, да ещё провести одну, две, три, десять результативных атак — ты уже близок к королю противника и готов угрожать шахом, а, может, и матом.
Сложно — потому что в ходе игры тебе могли бы переломать не только руки и ноги, но и надломить твоё Я. А могли (случись ситуация игровой мясорубки) и, вообще, превратить в фарш: слишком уж много существовало разных «но» в те загадочно-парадоксальные времена. Тогда недостаточно было иметь легкое перо, холодную голову и ясную цель. Помимо всего этого следовало ещё не ошибиться со вступлением в серьезную игровую комбинацию: войдешь в неё рано — плохо, замешкаешься — ещё хуже. Но если уже ввязался в бой — придерживайся простого правила: делаешь — не бойся, боишься — не делай.
Мифы об СССР, где невозможно было сделать карьеру — мифы и есть. Кто мог запретить шагать вверх, ступенька за ступенькой, по служебной лестнице? Партийцы?.. Это бред. Бред сивой кобылы.
Начало (дебют) в редакции «АТК», затем переход в газетный еженедельник, следом — работа на ТВ (когда круг моих героев расширился беспредельно: от последнего пьянчужки до недосягаемых вельмож республиканской партийно-советской элиты) всё пришлось ко времени. Ни поздно и ни рано.
Особая пикантная привлекательность (непривлекательность) той «расчудесной» поры состояла в том, что работать и жить выпало на разломе эпох: до 1985 года и после 1985-го. До перестройки и при перестройке. До Горбатого и при Горбатом: начало конца!
Какое же это было интригующее время, когда во власть пришла демократическая шпана (это позже о ней будут говорить, как о предателях и подонках), до той поры тихой сапой обитавшая где-то в потайных своих местечках, и вдруг вылезшая — все, как один! — на свет.
Они громче всех и кричали: «Перестройка! Гласность! Горбачев!..»
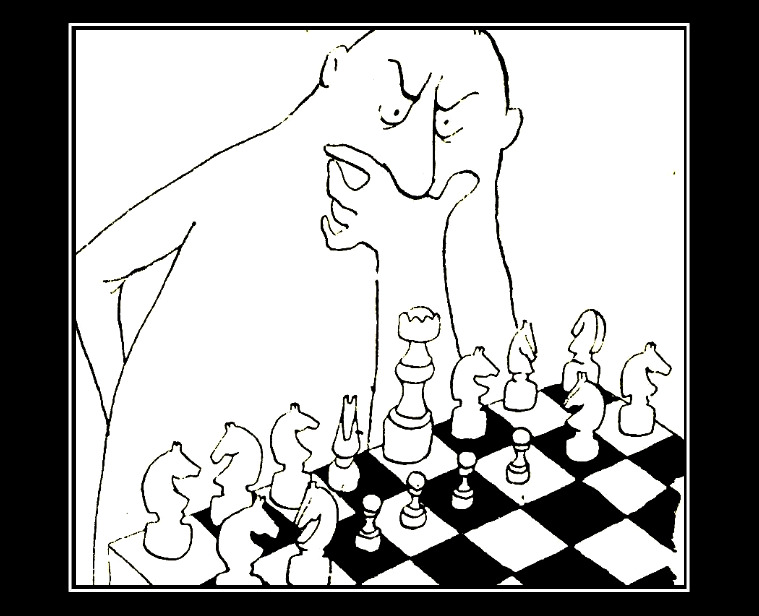
А Горбатый тогда лихо куролесил по стране, заливаясь соловьём перед народом. Выступал без бумажки в руке.
Кто обратил тогда внимание на такие его «гениальности», как выражения — «углубить», «обобщить»? Единицы.
Большинство были в восторге, что новый генсек не мямлил, как поздний Брежнев: «какой, однако, головастый — не то, что эти старые коммуняки!»
Когда рядом с ним появился ещё один (символический) персонаж Перестройки — первая леди СССР! — стало ясно: стране скоро придёт полный и окончательный кирдык.
Вот и настало время, когда не надо блистать талантами (это не обязательно).
Другое дело, если у тебя престижная квартира в престижном районе. Если производитель унитаза в твоём туалете из европейской страны. Если марка твоего автомобиля (ни в коем случае) не ВАЗ. Если на твоей шее и пальцах крутые цацки. Если одежда на твоём теле из забугорных бутиков, а не из совкового ЦУМа.
Бела тогда согласилась:
— Правильно: чтоб подруги завидовали, потому что у них отстойная бирка на нижнем белье.
Я ответил:
— И да пребудет с ними счастье!
Приход к власти «горбатых кретинов» потребовал равноценных «горбатых кретинов» везде, снизу до самого верха. В том числе, и в СМИ. В 1989 г. на журнал «Наука и жизнь» было подписано больше 2 млн. человек, «Технику — молодежи» — 1,5 млн., «Радио» — 1,5 млн., «Юный техник» — 1,7 млн., «Юный натуралист» — 2,9 млн. Журнал «Моделист-конструктор» имел 1,7 млн. тираж!
Сегодня знания, которые сообщали бы подобные издания, никому не нужны.
Массовым СМИ они не нужны, поскольку эти СМИ забиты «горбатыми кретинами».
В те годы мы открыли для себя Александра Зиновьева, читая в его трудах: «Теперь почему Запад аплодирует Горбачеву?.. Что вы думаете, Запад хочет, чтобы советские люди жили роскошно, были сыты? Ничего подобного! Западу нужно, чтобы Советский Союз развалился. Горбачева похлопывают по плечу… Они говорят: действуй, Миша…»
Говорят, шанс найти себя (как и потерять) в такие времена увеличивается многократно.
Китайцы на этот счет иного мнения: не приведи, господи, жить во времена революций! (На то они и китайцы.)
Всё и всегда у меня шло гладко? Конечно, нет. Были и сердитые звонки наверх, в ЦК, в СовМин, от областных, городских и других начальников, недовольных «Этим с бородой».
(«ЭТОТ С БОРОДОЙ» — это я. Так за глаза меня называли в партийно-советской среде, с которой мне приходилось иметь дело; кроме того, я был на слуху, как «молокосос», у которого, соответственно, молоко на губах не обсохло — это для того, чтобы моё первое «метафорическое» имя звучало с ещё большим пренебрежением.)
Были и правительственные телеграммы с ультиматумами урезонить и спустить с небес на землю «Этого с бородой». Были и такие «приятные» моменты, как повестки в суд.
(Хорошо, однако, получать повестки, когда за спиной у тебя Гостелерадио.)
Но всё складывалось более, чем удачно: «к удовольствию» моих «доброжелателей» несомненные «минусы» в моём случае обращались в несомненные «плюсы». И чем страшнее были угрозы, тем большим был резонанс от того, что я делаю, и как я это делаю.
Конечно, возможностей с треском вылететь с работы было миллион. Одно неверное движение, один неверный ход могли превратить в мгновение все мои труды в пепел, в ничто.
Я не получил детский мат в три хода и не попал в ловушку, клюнув на лукавую жертву тяжелой фигуры. Чтобы получить детский мат, надо быть просто олухом. В таком случае, лучше не ввязываться в драку вовсе.
Я не допустил нелепых промахов и глупых ошибок. Поэтому не миновал меня (если выражаться языком гламурных журналов) звездный час, не миновали и лавры.
Кстати, о не-парадоксальных парадоксах.
Особой любовью у высоких начальников я (как было сказано выше) не пользовался. Слишком необычно появлялись на свет мои «шедевры». И слишком необычную реакцию вызывали мои исследования действительности. Начальникам, куда, как проще, было найти предлог и избавиться от меня (вместе с моей «неправильной» программой на государственном телеканале), чем продолжать терпеть меня (и мои эфирные эксперименты).
Тем не менее, ни у кого не поднялась рука это сделать: никто не решался пилить сук, на котором сидели и они тоже.
Очевидно, что вместе с пикантными «приятностями», которые приносили мои «шедевры», мои боссы зарабатывали вполне законные очки: в начале недели их вызывали на «ковёр», где грозили лишением партбилета, в конце недели (на том же «ковре») выслушивали крики восхищения за воспитание новых кадров.
И так из недели в неделю: в понедельник мои бастыки жаждали меня растерзать, а в пятницу кричали «Браво!», и требовали продолжения банкета. Что и получали (по установившемуся алгоритму) на полную катушку.
Нет, лучшие сюжеты рождаются не за письменным столом — это аксиома!
— Это аксиома… — повторила Бела.
Я выключил пультом звук телевизора. На экране замелькали немые картинки. Шёл дежурный сюжетец про шестилетие подписания Беловежских соглашений, про отставку первого (и последнего) Президента СССР: кадры хроники с Горбачёвым, Ельциным, Назарбаевым.
Смотреть без звука стало даже «интереснее», чем со звуком.
Скрипнули половицы в коридоре. Судя по всему, это Алик проследовал твёрдым шагом из спальни по направлению к ванной комнате.
В последней алма-атинской квартире у нас было три телевизора: в зале — «GoldStar», в детской — «Рубин», на кухне — «Юность». Но (парадокс!) они больше пылились без дела, чем работали по прямому назначению.
Я был сыт по горло ТВ на работе.
Бела обо всех новостях в мiре узнавала от меня. Поэтому причин проводить время на диване перед экраном не было никаких. Правда, Мирослава и Милана иногда включали свой телек, чтобы посмотреть мультики (когда повезёт): программ ТВ у нас тоже не водились.
Если им не везло, «Рубин» бубнил фоном (как сегодня, в Минске). А дети занимались своими делами: играли с куклами, рисовали.
Забавный момент: когда они слышали запомнившуюся рекламу, то вместе с телевизором, не глядя на экран (машинально), звонко выкрикивали набившие оскомину хлёсткие слоганы.
— Я помню, — сказала Бела: — «…Майкл Паре в фильме «Полночная жара»!.. Или: «Бизнес — это искусство!» По-моему, из их уст это звучало даже лучше, чем туповатый дикторский речитатив.
— Лучше — это скромно сказано, это было лучше на порядки, — согласился я. — Особенно такой «скучный» текст: «Шэрон Стоун в эротическом триллере «Основной инстинкт»!
— С огнём решил поиграть? Закидывающие ногу на ногу девушки (без трусиков) появились на доступном всем экране немного позже. Со Стоун ты погорячился!
— «Был бы скучен этот свет, очень скучен, однозвучен, был бы скучен этот свет, скучен без улыбки!»
— Поэтому («улыбки» ради) … самое время переходить к байкам времён «большого-пребольшого публичного дома».
— То есть моего ТВ? — уточнил я.
— Твоего! Моего телевидения в моём Прошлом не было.
— Из коллекции «Нет лучше сказок, которые создаёт сама жизнь»?
— «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!» Вот незадача: в нашем случае сказку былью ты не сделал. Почему удаче (оказаться в нужное время в нужном месте), которая тебя любила, ты не ответил взаимностью?
— Ты это о чём? Когда казахи подставили меня, и я, бросив все дела, должен был встречать ПредСовМина?
— Ну, да: когда мы легко могли переехать в трёхкомнатную (четырёхкомнатную) квартиру. Но (возьмём это на заметку), по твоей милости, мы не переехали никуда. Молодец! Освежи-ка детали этой истории. Или слабо?
— Даже не знаю, что на это скажет мой «друг — особа юных лет».
— Не волнуйся. Я уже получила от неё согласие. (И от Шэрон Стоун — тоже.) Рассказывай смело. При одном условии: чтобы небо с овчинку не показалось!
Сижу, значит, я в монтажной АСК-2 (тем, что рядом с ЦК Казахстана). И как это бывает в нужное время и в нужном месте, ничего у меня (хоть ты тресни) не клеится: то того нет, то сего не хватает.
Моя «киношка», которую я монтирую, стоит в завтрашнем эфире, но она не готова ещё и на четверть. На часах — 18.00, конец рабочего дня.
По внутреннему телефону я звоню в отдел координации и говорю, что мне нужна ещё одна смена: буду пахать до упора, чтобы хоть к полуночи (с горем пополам) управиться.
Следом (совпадение?) по телефону звонят мне. Звонят из Дирекции программ. И не секретарь. Звонит самый главный, у кого я под началом, чьи приказы я обязан выполнять, а не можешь, не хочешь — гуляй Вася: предлог для увольнения без выходного пособия найдут быстро, и исполнят в аккурат.
— Минут через 10—15 будьте любезны встретить Председателя СовМина в фойе Гостелерадио! — слышу я в трубке приказной голос. — Шалахметов в командировке.
Шалахметов — это председатель Гостелерадио республики, и это его прерогатива принимать такого ранга гостей, но никак не моя. В конце концов, у Шалахметова есть замы. Есть замы и в Дирекции программ, которые выше меня в табели о рангах.
Но работать с ПредСовМина должен всё-таки я, несмотря на то, что я сам весь в запарке.
— Посмотрите внимательно текст его выступления по поводу декабрьских событий 1986 года. Тема тонкая. Здесь мордой в грязь — нельзя никак!
Я слушаю и, параллельно, думаю: а мне, значит, если я сорву свой эфир завтра, мордой в грязь — можно?
— «Рыбу» выступления референты подготовили. Но (всё равно!) гляньте свежим глазом: что там идёт поперёк, что — как надо. Что поперёк — поправьте. Потом всё это надо записать в студии. И чтобы всё было по высшему классу!
Я слушаю, и прикидываю: на это, как минимум, уйдёт час времени (а то и два). Пока выставят свет, пока установят пару телекамер, пока прикрепят петличку-микрофон, пока отстроят звук.
— А вы, как хотели? Заниматься только собственными проектами за гонорар? Надо — замечу вам! — и отработку «иногда» делать, за которую не светят гонорары… А то, глядишь, Макс, вы так и привыкнете напрягаться только за свой эфир. Нет, так не пойдёт! Кому-то надо и черновую работу делать!
Я слушаю, и отмечаю для себя, что, оказывается, писать в студии ПредСовМина — это «черновая работа».
— Короче, про «сесть в лужу» не забудьте — это приказ! — После этой фразы следует многозначительная пауза.
Я думаю: как будто есть случаи, когда обмишуриться — можно и нужно, и это есть — норма для всех и вся! Только мне было не до смеха.
Эту работу могли отдать любому свободному режиссёру, любому редактору, которого не поджимает завтрашний эфир. Но отдают её мне!
— Что там за «рыбу» сделали — хрен её знает, — повторил директор Главной дирекции программ Каз. ТВ. — Так что, давайте Макс! За работу. — Короткие гудки в трубке.
Я злой, как собака, останавливаю свой монтаж. Потому что мне надо бежать, чтобы встретить высокого гостя. Ещё мне надо забыть, что это не моя работа и не моя забота, когда собственный эфир висит на волоске.
Я мчусь галопом: другого выхода нет. Надо отрабатывать ежемесячную фиксированную зарплату в 140 рублей, от которой я с превеликим удовольствием отказался. Если можно было бы.
N.B: На телевидении к тому времени образовались две группировки: это казахи (те, кто восстал из «пепла» после декабря 1986 года), и коммунисты (колбасники), кто послушно продолжал выполнять приказы ЦК республики («попутно» пользуясь закрытыми партийными магазинами, где всегда есть в наличии, к примеру, сырокопчёная колбаска).
Была ещё третья не-группировка — те, кто из недели в неделю тащил эфир (как тащил его я). Они (без шума и пыли) пахали без продыха, не имея времени участвовать в сплетнях, которыми жили две первые группы.
Существование этой третьей не-группировки не очень устраивало и казахов, и коммунистов.
У меня было два эфира в неделю по 30 минут, а это — гонорар, который (так получалось) утекал не в тот карман, куда надо.
Лишился бы я этих двух эфиров — вздохнули бы с облегчением и восставшие из «пепла», и любители «колбасы».
Итак, после приказа из Дирекции (который не обсуждают) я должен был исполнить роль жандарма. Жандарма послушного, безропотного.
Кому же ещё это делать, как не мне? Если что-то в момент записи пойдёт нештатно — вовремя, кому надо (администратору, осветителю…), я обязан сделать втык: заслужил — получи! Чтобы не уронить реноме телевидения — вещателя разумного, доброго, вечного! И чтобы всё было в лучшем виде.
Пока ПредСовМина приводят в порядок в гримёрке, я, по-прежнему злой, как собака, обегаю всех участников съёмочного процесса и предупреждаю: если «что-то пойдёт не очень» — наказание будет суровым и неотвратимым!
Потом заклеиваю изолентой глазок на телекамерах. Глазок, который загорается красным, когда съёмка пошла. Категорически запрещённый приём. Это, хоть и профессиональный, но (по-армейски превентивный) шахер-махер!
Потом всем техникам, кто должен будет задействован в съёмке, сообщаю, что дубль мы запишем один. Только один!
Потом беру в руки текст выступления — 10 машинописных страниц. Значит, это 10 минут записи.
За дело! Я усаживаю в кресло ПредСовМина и предлагаю ему, в качестве репетиции, произнести свою речь, обозначив, по возможности (только для меня, единственного зрителя!) самые важные моменты.
Когда истекают 10 минут, мой высокий гость подаёт мне знак: он готов, можно снимать.
Я отвечаю:
— Ничего снимать не надо. Всё снято.
ПредСовМина в состоянии ступора (но ещё не может понять — какого ступора: со знаком «минус» или со знаком «плюс»). В аппаратной я показываю запись. Ему всё нравится: быстро, как у хирурга в зубном кабинете — была проблема и нет проблемы. Теперь он в таком приятном расположении духа, что пускается в откровения:
— Последний раз с Шалахметовым мы провозились часа два с лишним, снимая что-то подобное. А здесь я… как живой! Как это у вас получись? Как это возможно?
Не вдаваясь в подробности, я благодарю высокого гостя за доброе слово.
Референт, как старик Хотабыч, извлекает из своего «дипломата» две бутылки коньяка (КВК) «Казахстанского», салями, чужук и ещё какую-то неизвестную мне казахскую закуску.
Я передаю моей съёмочной банде честно заработанный коньяк (потому что всё было исполнено чётко, как по «нотам»), и мчусь назад, в АСК-2, на свой монтаж.
— Нет, это не вся байка, — с упрёком сказала Бела. — Хочешь исказить Прошлое? Не получится. Я помню — ты говорил, что выпил пару рюмок с ПредСовМина, и что состоялся разговор с ним. Нет?
Действительно, предельно лаконичный (и предельно «простенький») разговор состоялся.
— Почему я раньше вас не видел? — спросил он. — Давно работаете здесь?
— Без году неделю, — ответил я. Ответил так, как не говорят с большим начальником.
— И какие впечатления от телевидения? Только без приукрашиваний: что хорошо? что плохо?
— Если без вранья — казахи после декабря 1986-го оборзели. — Так я и сказал сгоряча: «оборзели».
Люба, моя ассистентка, которая стояла рядом, вжала голову в плечи: кому я это говорю? Да, работа сделана на «семёрку» (по пятибалльной системе оценок), но это не значит, что можно пускаться во все тяжкие: зачем будить лихо, пока оно тихо? даже если это «лихо» ещё пребывает в эйфории.
ПредСовМина никак не отреагировал на мою дерзость. (А мог отреагировать: кто — я? и кто — он!)
— Ничего, думаю — скоро всё придёт в норму, — ответил он.
— Потому что время лечит?
— Время лечит.
— Главное — не сойти с ума во время лечения.
Люба вторично незаметно (но более, чем с чувством, «красноречиво») толкнула меня в спину.
— Главное, что казахам и всем другим нациям в Казахстане делить нечего… Вы посмотрите, как идеально построили евреи Израиль. Причем — за короткий срок. Есть, чему у них поучиться.
— Вы считаете, что их государство идеально: Израиль — для евреев? — (сгоряча) выпалил я, нарушив все нормы субординации.
— Уверен, — ответил он.
— Сдаётся мне, что один из вас — сумасшедший… — Бела поправила плед на коленях.
— Намёк понят. Остается приоткрыть тайну разночтений в вариантах ответа (твоего и моего) на вопрос: кто — сумасшедший.
— Это лишнее!
— Это лишнее, — согласился я.
Алма-Ата — это большая деревня. Какое бы тайное не случилось в этом городе — через короткое время все об этом будут знать.
Каз. ТВ — это маленькая деревня: здесь даже самое тайное обрастёт такими невероятными слухами, что мама не горюй.
Поэтому на следующий день надо мной умирало со смеха всё телевидение: так ублажить всемогущего в республике ПредСовМина и не поиметь от него ничего — это редкая глупость! И феноменальная тупость.
На телевидении все знали, что Бела готовится стать мамой второй раз, а мы прозябаем в однокомнатной квартирке. Замолви я, хоть одно словечко в нужное время и в нужном месте — глядишь и получили бы мы (не нарушая законодательных норм по жилью) золотой ключик от трёхкомнатных (четырёхкомнатных) апартаментов в самом престижном центряке, где «ютятся» совминовские семьи: чем чёрт не шутит?
Нет, заветное словечко замолвить меня не сподобило.
— Ты прав: разные люди нужны мiру, — сказала Бела, — и те, кого любит удача и кто отвечает ей взаимностью, и те, кто взаимностью удаче отвечать не желает. Не желает и точка: тушите свет… Это также, как у тебя с математикой?
— Нет, как с сопроматом. Третий закон Ньютона.
— Понятно. Хоть есть нечего — да жить «весело»! Ладно, что было, то было: кто старое помянет — тому глаз вон.
— А кто забудет — тому оба? — закончил я.
— Правильно: тому — секир башка! «Застрелиться веником»: кругом — одни «не-парадоксальные парадоксы». Даже в пословицах. Почему? Секундочку, сейчас вспомню, как ты сказал… вот: «И настало время, когда не надо блистать талантами». Сказал?
— Сказал. Это не обязательно.
— «Другое дело, если у тебя престижная квартира в престижном районе».
— Да, это уже совсем другое дело.
— Всё, хватит! — Бела отбросила плед в сторону. Встала. Прошла из конца в конец комнату несколько раз. Потом опустилась в кресло, закутавшись снова в плед. — Хватит про «публичный дом»!
— Питающий страждущих духовной пищей? — сострил я.
— Да, пропитанной насквозь только «духовной пищей»!
Здесь я опять отличился:
— «Прикрытый лаврами разбой… не стоит славословья»?
— Не стоит… Хотя нет, стоит. Закончим эту тему твоими вечными командировками (непонятно куда и непонятно с кем). И обязательно в выходные (для всех) дни, а нередко, что и в праздники. Было дело?
— Было «дело», — ответил я.
— Возникала вдруг (из ничего) командировка за тридевять земель, из категории престижных (или не очень). Кому окажем столь «высокое доверие»? Конечно, Максу! Кому же ещё? А Бела с детьми, с собакой пусть дома кукует.
— Это опять будет про не-парадоксальные парадоксы.
— Ничего: век живи — век учись. Вопрос: эти командировки тоже считались отработкой?
— Тоже. Даже не знаю: стоит ли мусолить всё одно, да по тому. Всё из одной и той же оперы. Рytanie: что на это скажет мой «друг — особа юных лет»?
— Не волнуйся. Я уже получила от неё согласие. Так хочется ещё что-нибудь узнать про «публичный дом». Что-нибудь такое новенькое, о котором ты в нужное время в нужном месте меня не посвятил.
После одного из таких спецзаданий (в Шевченко, что на Каспии) меня долго-долго не тыкали носом и не упрекали, что я не занимаюсь отработкой. Меня на какое-то время (даже!) отстранили от отработки.
Помню, как Борька тогда сказал:
— Да, тебя хоть в пустыню закинь. И там раскопаешь что-нибудь такое «ядрёное». Пустыня пустыней, а скандал на выходе — получите!
Скандалы я не раскапывал. Скандалы были везде и кругом. Миллионы скандалов. Их и придумывать не надо было. Их только надо было увидеть.
В тот день, когда я планировал лететь в совсем другой город, мне объявили: билеты для меня и всей съёмочной группы уже куплены — спецзадание ЦК! Цветы, оркестр, лимузины к трапу — обо всём договорено. И без лишних вопросов!
Без лишних — так без лишних: будет исполнено.
В Шевченко я мчался, как на пожар. Показалось даже — самолёт летел быстрее обычного. «Судя по всему», и пилотов накрутили: прибавить скоростей!
«Пожаром», как выяснилось, были городские отчеты-выборы в партии — мероприятие просто «архи-серьёзнейшее»: ведь перестройка повсюду! «процесс пошёл»!
Прибыли мы, как полагается, со всем телескарбом: камера, свет, видеорулоны…
В аэропорту нас не встретил никто. Ни лимузинов, ни оркестра, ни цветов.
По должностным инструкциям я не имел права перевозить всё это добро на такси: вдруг грабанут? кто будет отвечать? (я!) кому придётся компенсировать ущерб? (мне?) Стоимость одной камеры «Betacam SP» (в те времена) была чёрти сколько тысяч долларов.
Если не на такси, тогда как: пешком? Конечно, пешком — это «полная гарантия», что не грабанут. («Храните деньги в сберегательной кассе!»)
Я из аэропорта обзвонил все номера телефонов обкома, куда из приёмной Дирекции программ Каз. ТВ отправили телефонограмму о нашем прибытии. Везде — ни гу-гу: хорошенькое начало!
Пришлось погрузиться в два такси, за которые, конечно, расплачивался я (как, впрочем, и в течение всей нашей расчудесной командировки), но это мелочи. Не мелочи — то, что в главной гостинице города, куда мы прикатили, свободных мест не было. И никто здесь для нас ничего не бронировал: вот такая «договорённость обо всём».
Мне ничего не оставалось, как налегке, пешкодралом, оставив свою съёмочную банду в фойе, отправиться к местным начальникам: что за бардак — так «тепло» встречать гостей из столицы?
Второй секретарь горкома, выслушав меня, спросил:
— Вы коммунист?
Причем здесь это, подумал я. Речь шла (всего-то!) о перевозке техники из аэропорта, о поселении в гостиницу. Вероятно, ни внешне, ни как-то иначе, я не производил никакого серьёзного впечатления. И, конечно, я не выглядел бастыком.
Зато мой собеседник производил впечатление стопроцентного бастыка. К такому, как говорят языкатые зануды, на драной козе не подъедешь.
Да, ещё пару таких тонких моментов:
1. На представителей некоренной национальности (к каковым относился и я) уже тогда стали смотреть косо;
2. Пользуясь шахматной терминологией, я был (в глазах моего собеседника) «пешкой», имеющей право только в начале игры пойти через клетку;
3. Второй секретарь был «ферзём» (с маленькой буквы), возможности которого в местном масштабе были безграничны;
4. «Ферзь» с большой буквы сидел в Кремле. Это он расплодил по стране своих клонов: раньше (до его появления во власти) в обкомах, в горкомах можно было обнаружить технарей, которые крепко знали своё дело. Теперь их вытеснили сплошь юристы, и сплошь «знатоки» научного коммунизма;
5. А где на моей (метафорической) шахматной доске такая (главная) фигура, как «Король»? — спросят дотошливые умники;
6. Отвечаю претендентам на аналитический статус: «Король» (в те годы) находился на ПМЖ за пределами СССР.
Образовалась пауза, во время которой второй секретарь лениво оглядывал меня: что это за троглодит стоит перед ним?
— Нет, я не коммунист, — ответил я.
Он задумался:
— Как прикажите такую несуразицу — дичь! — понимать? Что это за новости: отчеты-выборы будет освещать не коммунист?
Он долго, по-казахски, с кем-то говорил по телефону. Хмурил брови, суровел, потом мягчал, потом снова суровел. Бросал трубку на аппарат. Брал её опять, и опять принимался набирать номер.
Я не хотел мешать ему, решив потихонечку смыться. И вышел вон, без лишних комментариев.
Постовой милиционер, который стоял на входе в горком, неожиданно сообщил мне, что в гостинице нас должны поселись, если уже не поселили.
Действительно, в гостинице моя группа уже отдыхала в номерах, но желания завтра же улететь в Алма-Ату не пропало ни у кого.
— А как быть с выпивкой за первый отснятый кадр? — спросил с недоумением оператор. Была такая у телевизионщиков традиция: не выпьешь за первый кадр — съёмки всенепременно не заладятся.
— Какой это первый кадр? — удивился я. Вроде как только прибыли с корабля на бал: не до съёмок было.
Оператор ответил, что так, наобум (в качестве пробы!) он снял синхрон с таксистом, когда мы ехали из аэропорта. Водитель там такое понарассказывал обо всех и вся в Шевченко: точь-в-точь, как в гоголевском «Ревизоре» (этот ворует, этот берёт борзыми, этот натуральным борделем заправляет и т.д.). И всё с фамилиями, и всё с фактами.
Свою киношку об отчётах и выборах в Шевченко (без единого авторского комментария) я и начал с этого синхрона. И пролог получился недурным. Съёмки с плеча в покачивающейся на ухабах машине — почти любительские. А выстрелило всё (прыгающая картинка плюс синхрон!) в «цель». Как будто изначально так и задумывалось.
В завязке мы пересеклись с персонажами, упомянутыми таксистом: очень колоритные попались «городничие», «попечители богоугодных заведений», «судьи», «смотрители училищ», «почтмейстеры», «уездные лекари». Подумалось: да, с такими орлами снимай хоть полный метр: профессиональные актёры не нужны.
В качестве доказательной базы, что местная власть прогнила насквозь, чуток поснимали рядовых партийцев-старичков, покопались в документах, какие смогли найти (кто, де-факто, прав — кто не прав). Короче, завязка получилась крепкой. Фактического материала — через край: можно выставлять счёт прокуратуре за наши труды.
В кульминации было интервью с тем самым партийным боссом, который был возмущён, что я не коммунист.
Про это интервью — отдельный разговор.
Второй секретарь горкома пришел в студию местного ТВ загодя. Он по-бастыковски развалился в приготовленном для него кресле напротив меня, и, постучав ногтём по микрофону-петличке, спросил:
— Ещё не снимаем?
— Ещё нет, — сказал я.
Нет, зря он всё-таки не прислал за нами в аэропорт пару «Волг», цветы и оркестр. Зря.
Минуту назад я дал знак своим помощникам, чтобы включили запись, как только мой собеседник плюхнется на своё место. Красные глазки камер по моей команде были заклеены изолентой (старый, испытанный приём): чтобы нельзя было понять — идёт съёмка или нет.
Нижеследующий абзац может быть представлен только в скобках:
(При включенной камере кретин — не всегда кретин, лицемер — не всегда лицемер, подонок — не всегда подонок.
«Без камеры» кретин (чаще всего) — это кретин, лицемер (чаще всего) — это лицемер, подонок (чаще всего) — это подонок.
Когда «ферзь» говорит с «пешкой», подумал я, снимать следует только с заклеенными красными глазками камер. Запрещённый приём? Да, запрещённый. А кто сказал, что на войне не все средства хороши? Победителей не судят.)
— Вот и хорошо, — уже намного ласковее произнёс мой знатный гость. — Успеем поговорить…
Он заявил, что в курсе всей моей бурной деятельности в Шевченко: где (конкретно) и с кем (поимённо) я успел накосячить-накуролесить! Да, в городе — не всё гладко, никто не спорит. А вот те правдолюбцы, которые дерзнули говорить про это мне в камеру, получат по соплям после выборов. Все до одного! А кто-то и с партбилетом расстанется. Что касается возни вокруг выборов (кандидаты со своими программами, соперничество, глас народа…) — это буря в стакане! это полная фигня!.. А Горбачев? Горбачев — не фигня! Горбачев — это молодец!..
Он в запале наговорил столько — и про себя, и не про себя, и всё очень-очень доказательно! — что, в принципе, мне и помогать-то ему особенно не пришлось: так, парой-тройкой вопросов, когда он отклонялся от нужного (мне!) курса.
Он хотел по-хамски посмеяться надо мной, столичным бипаз-ом. Над моими глупыми (и смешными) потугами найти справедливость: всё равно выборы завтра пройдут, как по маслу, пройдут, как надо! а я останусь «круглым дурак дураком» с ушами (как и подобает «натуральному охламону») холодными! уж об этом он позаботится. И уже позаботился.
Проникаясь мудростью слов моего собеседника и не перебивая его, я подумал: «круглый дурак» — это ежу понятно, а возможен быть в жизни (в реальности) «дурак квадратный»? От дубины стоеросового эти два дурака, какие могут иметь принципиальные отличия?
— Теперь можем писать интервью, — проговорил он важно, почувствовав, вероятно, что достаточно уже разогрелся (как спортсмен перед стартом), достаточно раскрепостился (как актёр перед выходом на сцену).
— …
— Включайте ваши шарманки! — повелительно дал команду он.
— А интервью мы уже записали, — сказал я.
— …
Мой ассистент с записанным видеороликом в это время уже мчался на такси в аэропорт (опять за мои кровные командировочные), и, в аккурат, поспевал на алма-атинский рейс.
Второй секретарь сначала покраснел, как рак. Потом — позеленел.
На следующий день состоялась партконференция. Всё прошло, «как по маслу». Мы там тоже чуть-чуть поснимали. Это попало в ту часть моей киношки, что зовётся развязкой.
Для эпилога я взял синхрон с ответработником из ЦК, который прибыл в Шевченко больше с целью надзора за мной, чем для участия в конференции. Он говорил в нём что-то пафосное о процессах перестройки в партии, о гласности, и, конечно, о головастом нынешнем (не чета — старым) генсеке. Говорил умненько, гладенько, без заковырок: светлое Будущее в наших чистых руках!
Цэкушник сразу смекнул, что все козыри у меня на руках и бодаться в этой ситуации — ему дороже станет. Решение неглупое.
Кстати. До Алма-Аты мы, с этим ответработником, добирались в соседних креслах самолета. Всю дорогу пили (по чуть-чуть) хороший коньяк. Цэкушник угощал.
Оператор недовольно пробурчал мне в ухо: мол, негоже это как-то — с врагами квасить.
— Гоже-гоже! — ответил я (не шепотом), и передал ему наполовину полную бутылку. — Коньяк в данном случае — это как дань победителям в национально-освободительной войне. Мы ведь победили в этом пусть маленьком, локальном бою?
— Победили, — согласился он, и принял коньяк.
Всю дорогу мы трепались с цэкушником о том о сём. Он мастерски юлил вокруг да около (пытаясь идентифицировать меня: кто есть я?), пока яростно не спросил:
— Действительно, как же так: партийную конференцию освещает не партиец?
— А помните у Ленина: работу партийцев надо проверять беспартийным?
— Так хорошо знаете классиков марксизма-ленинизма?.. И не коммунист?
Мне пришлось — под коньячок-то! — рассказать в двух словах, почему я — не коммунист.
Вступить в партию, работая в редакции, было не просто: анкет для творческих людей некоренной национальности давали раз, два и обчёлся. Легче было уйти на завод, вступить в партию и вернуться коммунистом в редакцию, чтобы потом без лишних усилий перепрыгивать через ступеньки (вверх) по карьерной лестнице. Но мне (везение?) предложили: вступай, анкетка для тебя есть.
Ко мне прикрепили инструктора из райкома, чтобы побыстрее всё оформить. Всё оформили. Через неделю собрание в первичке, где меня и примут кандидатом. Приходит, запыхавшись, этот инструктор: где фото на партбилет? ещё не сделал?
— Хорошо, — безропотно отвечаю я, — не вопрос, сейчас сделаем.
— Как не вопрос? — возмутился он. — А твоя борода? Растительность на лице надо убрать!
Меня это развеселило: кто установил, что в партбилете должно быть фото только без «растительности»? он сам? Но вида я не подал, стараясь выглядеть послушным дебилом.
— Хорошо, — сказал я. — Как Маркс с Энгельсом бороды «уберут», так и мы последуем их примеру.
Это была шутка. Хотят без бороды — будет без бороды, не проблема. Но чёрт меня дёрнул продолжать ёрничать:
— Я вот и потомством уже обзавёлся. А наши предки жили как? Родился первенец — уже не прилично мужчине ходить с голым лицом. Нет, не прилично. Это похоже (боюсь произносить вслух!) на стриптиз.
Каламбуры каламбурами, а через неделю я кандидатом не стал. По райкому поползли сплетни, что я по-издевательски подначиваю классиков марксизма-ленинизма. Первый секретарь райкома дал команду «повременить» с моим вступлением: «отложить на какой-то срок». Утро вечера мудренее.
«Повременение» затянулось на месяцы. И у меня руки всё не доходили (и не доходили) похлопотать за себя. И не дошли до сих пор. (Не судьба?)
Цэкушник закатился смехом. И точно — без лицемерия.
Свою киношку из Шевченко я назвал «Буря в стакане».
В Алма-Ате моё начальство уже побывало «на ковре», на самом верху (до ЦК от нашего АСК-1 — двести метров пешком), когда я ещё был в командировке. И получило очередной втык.
«На ковре» у своих боссов побывал и я, по возвращению, когда сдавал уже смонтированный материал. И когда мне было (в категоричной форме) приказано убрать все острые моменты. Убрать все до одного.
Если это сделать, подумал я, останется одна фраза новостной строкой: «В Шевченко состоялись отчёты-выборы в городской парторганизации».
На ночь я заказал аппаратную, и долго размышлял: перемонтировать? не перемонтировать сделанное?
Инженер видеомонтажа клевал носом у монитора. Потом смотрел видео «Плейбоя» (ночью это можно! никого нет, никто не застукает), и терпеливо ждал, когда я на что-то решусь.
Потом мы пили кофе, чтобы взбодриться. Потом толковали про возможности 25 кадра: фантастика это? или реальность? А потом врезали по всей моей киношке микровставки девчонок из «Плейбоя». Засечь их можно было только, отсматривая всё на стоп-кадрах: запрещённый приём? да, запрещённый! и ещё какой запрещённый, за который можно было вылететь с телевидения с треском и со скандалом.
— Да, тебя хоть в пустыню закинь, — смеялся тогда Борька, — а «кинокомедию» на выходе — получите!
— А я из пустыни и прибыл, — сказал я.
Утром директор программ, принимая «перемонтаж», осторожно, особенно не педалируя, похвалил:
— Теперь — совсем другое дело.
Вариант со врезками я тут же благополучно размагнитил.
В эфир вышла «Буря в стакане» без глянцевых красавиц.
Бела смешно нахмурилась:
— «Женщина… сладострастие в ответе за всё… за всю свистопляску страстей и вожделений, супружеской неверности, смерти, убийства, войны…» Я же говорила — телевидение без голых баб — это не телевидение! Идеальная математическая формула — подстать еiп +1 = 0 (как ты сам говорил).
— Значит, тему ТВ закрыли?
— Нет, не закрыли. Коль пошла такая пьянка — режь последний огурец.
— Ты требуешь продолжения банкета?
— Требую.
(Повторенье — мать ученья про «не-парадоксальные парадоксы» относительно таких хитрых существ, какими являются те, кого принято считать слабой половинкой живущих на Земле: «Мужчина, если бы и смог понять, что думает женщина (в данном случае — мать моих детей), он всё равно не поверил бы в то, что она думает».
Это следует отнести к части наблюдений Наблюдателя (то есть — меня) с высоты прожитых им 38 лет.)
На самых высоких партийных верхах требовали от ТВ новых подходов и новых форм. Требовали большей аналитичности и оригинальности. Они их получали. Получали сполна.
Что делал я? Я экспериментировал в части постановки темы, в части сценариев и режиссуры, в части съёмок и монтажа, в части формирования команды, работающей над программой, в части оплаты её труда. Может, поэтому на планерках и летучках телевизионная братия меня «любила», с подобострастием жала руку, поздравляя с очередным успехом? (Пёс его знает: тайна покрытая «мраком». )
Передо мной бывало — панибратски расшаркивались или заискивающе опускали глаза. Просили поделиться профессиональными секретами и находками. Однако публичная любовь была вершиной айсберга, одна третья его часть. Под водой, где находится две третьи ледяной глыбы, было обратное: не-любовь и не-восхищение, тайное и явное одновременно.

За глаза я был и выскочкой, и тираном. Тираном на съёмках, тираном в монтажной, тираном везде!
— И опять эти «сто тысяч «Почему»… — произнесла отрешённо Бела. — Ненависть ещё надо заслужить. Как тебе удалось заслужить ненависть?
Свои телепроекты (для себя) изначально я определил, как микрокиношки, где всё сделано, как при полном метре: драматургия, режиссура, съёмки — всё по классическим нормам.
Почему тогда — «микро», и почему — «киношки»? Первое — это хронометраж в 30 минут. Второе — роли в них играли не профессиональные актёры. Это были простые люди в разных простых (и не простых) историях. Но: если герои моих сюжетов не подходили по критериям кино (не были живыми в кадре!) — весь проект я отправлял в корзину.
Случались, безусловно, компромиссы, когда человек (пока не заработала камера) был открытым (и говорящим не про жевано-пережёванное), а, как только камера включалась, его переклинивало: ни мыслей, ничего нет! Что я делал? Записывал отдельно звук и отдельно снимал персонажа (не изрекающего «высоких истин» в камеру) в разных интерьерах (ходящего, лежащего, стоящего за станком, за операционным столом и т.д.), а потом подкладывал под картинку звук.
И третье — в моих киношках не должно было быть ни одного закадрового комментария. Это когда говорят: здесь — козлы, а здесь — бараны, здесь — фиолетовое, а здесь — розовое, здесь — хорошо, а здесь — плохо.
Главное, что требовалось — это (желательно, без лжи) обозначить конфликт, где мои персонажи раскручивали (рассказывали) историю от начала и до конца. Ещё, конечно, была озвучка, были титры. Всё, больше ничего не было: конец фильма.
— А где авторская позиция? — возмущались мои начальники. — Мы не шарашкина контора какая-то. Вы, в конце концов, за кого? Здесь уж надо определиться, чтобы не путать тех, кто находится по ту сторону экрана. Нет, путать людей не надо!
Вопрос ставился ребром: за кого я? Это надо было понимать так: я за красных? или за белых? а, может, я за серо-буро-малиновых?
Я был за всю историю, которую рассказывал, целиком. Без дробления на части.
Каким-то загадочным образом мою первую не-правильную («без авторской позиции») киношку поставили в эфир. На фоне других работ она смотрелась одиноко, как степной волк.
На летучке по итогам недели её признали лучшим материалом, и повесили на т.н. «красный гвоздь» (центральное место на доске объявлений Гостелерадио республики). Плюс ко всему — пришёл мешок писем: интернета тогда (вот «средневековая» туполобость на постном масле) не было, люди писали на бумаге, пользуясь перьевыми, шариковыми ручками, конвертами и почтой.
Потом вышло второе моё кино. Всё повторилось. Потом я снял третье, четвертое, пятое — и пошло, и поехало.
Опять же — если смоделировать ситуацию, что вместо моих киношек я стал бы клепать привычные репортажи, интервью, тяжеловесные пафосные программы с говорящими головами, вряд ли мне улыбнулся постоянный эфир. Да, возможно, засвечивался бы время от времени. Что касается прямого эфира — то до него меня не подпустили бы и на пушечный выстрел: зелен ещё, не съел пуд телевизионной соли; кроме того, не коммунист, неизвестно, что могу ляпнуть в камеру.
Только смонтированный материал и был для меня возможен. Потому что его потом обязательно могли отсмотреть, одобрить к эфиру или не одобрить, взвесив (с точки зрения профи с солидным теле-стажем) все за и против.
Я не вымучивал концепцию своего проекта. Она появилась на свет сама собой. И (в момент) решила все проблемы: и с моей непартийностью, и с авторской позицией.
Суть её состояла в том, что не важно было: за кого я? Важно — чтобы большевики увидели, что моё кино для большевиков, горбатые — для горбатых, ангелы во плоти — для ангелов.
— Как интересно: чем дальше в лес — тем больше дров, — сказала Бела. — Всё так, и всё не так… Да, я поняла: при включенной камере кретин — не всегда кретин… «без камеры» подонок (чаще всего) — это подонок… Ты не поверишь, но я хорошо помню архитектуру твоих киношек.
— Не поверю: «свежо предание…»
— Не надо хохмить. Как заезженная пластинка. Вот (по-твоему) неправильный сценарий: главный персонаж (он или она) прогуливается по Невскому проспекту; из ближайшего переулка появляется лошадь; поравнявшись с человеком, она (неожиданно для всех) умудряется лягнуть его. Это скучно. И это не интересно.
— А какой сценарий (по-моему) правильный?
— Очаровательная дама (или какой-нибудь другой типаж) прогуливается по вечернему Невскому проспекту при полном классическом параде: в вечернем платье и туфлях на шпильке; из переулка появляется вороной масти жеребец; и в тот момент, когда он пробегает мимо дамы, она (неожиданно для всех) умудряется своей левой ножкой изящно лягнуть несчастное животное. Конфликт обозначен. Это не скучно. И это интересно.
— Потому что такова жизнь, где совмещается несовместимое, где ложь неотличима от правды, где ненависть неотличима от любви. А далее?
— Далее очевидцы необычайного (и обычного) происшествия рассказывают о своих впечатлениях. Они разные, потому что разные люди видят случившееся по-разному.
— Например?
— Например, в момент удара очаровательная дама так высоко поднимает ногу, что окружающие видят её чулочек с кружевным рантом (вверху его) и с классическим швом (сзади его). Далее?.. Далее безобидный жеребец размышляет в камеру о возможных (невозможных) причинах конфликта. Далее о мотивах своего поступка говорит сама дама. Далее мы опрашиваем всех, кто видел происшедшее. Мнения тех, кто справа. Мнения тех, кто слева. Мнения тех, кто посередине. Всё, конец фильма. «Свежо предание»?
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
