
Как я стал военным
Как я стал военным
Вообще-то я собирался стать юристом. Для этого были все предпосылки.
Во-первых, мама у меня была юрист.
Она окончила Ленинградский Университет, и предполагалось, что я пойду по её стопам. Это не она предполагала, а я. Мама у меня очень демократичная особа, по-современному — толерантная. Не единым словом она не обмолвилась о таких моих перспективах с её точки зрения. Но я так сам решил. После того, как поработал на общественных началах у неё в нотариальной конторе секретарём. Мне очень понравилось сидеть с важным видом у мамы-нотариуса под дверью, записывать в очередь граждан, печатать разные бумажки на машинке и торжественно приглашать к нотариусу-маме в кабинет «следующего». Народу было! И все жаждали попасть к маме на приём как можно скорее и «первее». И регулировать эту очередь было очень почётно и ответственно. И я очень гордился. И мама мной тоже гордилась. «Хороший ты помощник, сынок», — говорила она. Но ни разу опять же не выразила своего пожелания, чтобы я пошёл по её стопам. Может, тогда уже понимала, что другое по жизни занятие мне будет милее, а главное — нужнее.
Это всё было — во-первых.
Во-вторых, было то, что мне действительно нравилось сидеть вот так вот под дверью кабинета мамы-нотариуса, в костюме- троечке, специально сшитом по мне, с часами-луковицей на цепочке, купленными по моему пожеланию. Я сидел весь чистенький такой, аккуратненький, благородный даже (на фоне всех этих китайских курток, штанов «адидас», белых тапочек и прочего китайского ширпотреба). А вечером после работы мы с мамой садились в машину, — иногда мама даже давала мне порулить, — и ехали домой, предварительно заезжая в местные магазинчики и покупая всё, на что падёт глаз. А дома нас ожидал пир. И так каждый день: с деловым видом печатать нужные бумажки, регулировать очередь и вызывать «следующего».
Ну, а в-третьих, было то, что в конце месяца мама выдавала мне жалованье, чисто символическое, конечно, но для меня очень даже приятное.
Вот и казалось мне тогда, что именно так и обстоят дела у всех юристов: не пыльно, почётно и прибыльно. Я же не осознавал тогда, что мама в поте лица, можно сказать, не покладая рук и не отдыхая головой, изо дня в день трудится на этом поприще. Мне казалось тогда, что ей так же легко там, за дверью кабинета, как и мне здесь — перед этой дверью.
Кроме всего прочего, я каждый день наблюдал, как счастливые и довольные выходили все эти люди из маминого кабинета, и как все наперебой благодарили её и желали здоровья и счастья.
Скажите, разве всего этого мало, чтобы захотеть поступить в университет, который окончила мама, и стать потом успешным юристом?
Так вот…
И вся эта моя такая славная жизнь протекала на Дальнем Востоке в начале 90-х. Я оканчивал школу, а мой брат — уже окончил. Он был натурой творческой, ранимой, а вскоре перед ним должен был встать вопрос службы в армии. Творческий потенциал и армия. Трудно совместимые вещи. И в этот напряженный момент мама предложила ему, так сказать, запасной вариант. «Поступай в военное училище, сынок, — сказала она ему, — три года отучишься, и, если поймёшь, что это твоё — продолжишь. А не твоё — уйдёшь. Зато долг Родине честно отдашь, бегать от армии, как другие, не станешь, позорить отца твоего, подполковника запаса, не будешь. И меня тоже».
Так решилась судьба брата. А я юристом собирался стать.
Пока то да сё — мама в Ленинград вернулась, с расчётом, что и отец вскоре к ней туда подтянется. Но вместо него, мы с братом вслед за ней туда подтянулись. Взяли билеты, сели в поезд «Владивосток — Санкт-Петербург», отец загрузил нам пару ящиков рыбных консервов и китайской лапши (очень ходовой, и даже — престижный — тогда продукт), и мы поехали. Брат едет в училище поступать, я — в университет, на юридический.
А ехать семь суток.
И вот ехали мы с братом, ехали, а когда к Питеру подъехали, обожравшись до горючей изжоги этой самой лапши с консервами — оба уже в училище приехали поступать. Даже и не знаю, как так получилось.
Вообще-то мы с братом с малолетства дружные очень были. Почти не разлей вода. Он, как старший на два года, всегда меня хороводил. Ну и я за ним, как нитка за иголкой. Он умный, вундеркинд от рождения, всё на лету схватывает, а я — не очень интеллектуальный, зато трудолюбивый и упорный. Видимо, это и сыграло основную роль для принятия такого решения — ведь вместе мы точно не пропадём в суровых армейских условиях! А поодиночке… Брат, как пить дать, поступит, а служить в одиночестве ему тяжеленько будет. А я в университет вряд ли поступлю, если… Ну, да чего уж там! — если мама не поможет. Зато службу тягостную армейскую точно смогу вынести и братишке в этом помогу. А он мне — поступить…
Вот, наверно, потому и решили в училище теперь мы уже тоже вместе идти. Почему «наверно»? Потому что таких рассуждений и разговоров мы с ним тогда не вели. Всё как-то само собой решилось, по ходу нашей совместной поездки Владивосток — Санкт-Петербург.
И мы поступили.
Впоследствии я стал военным, а брат — нет. Как мама и сказала: отучился брат три года и помахал училищу ручкой — занялся свободным творчеством.
Как говорится — каждому свои угодья.
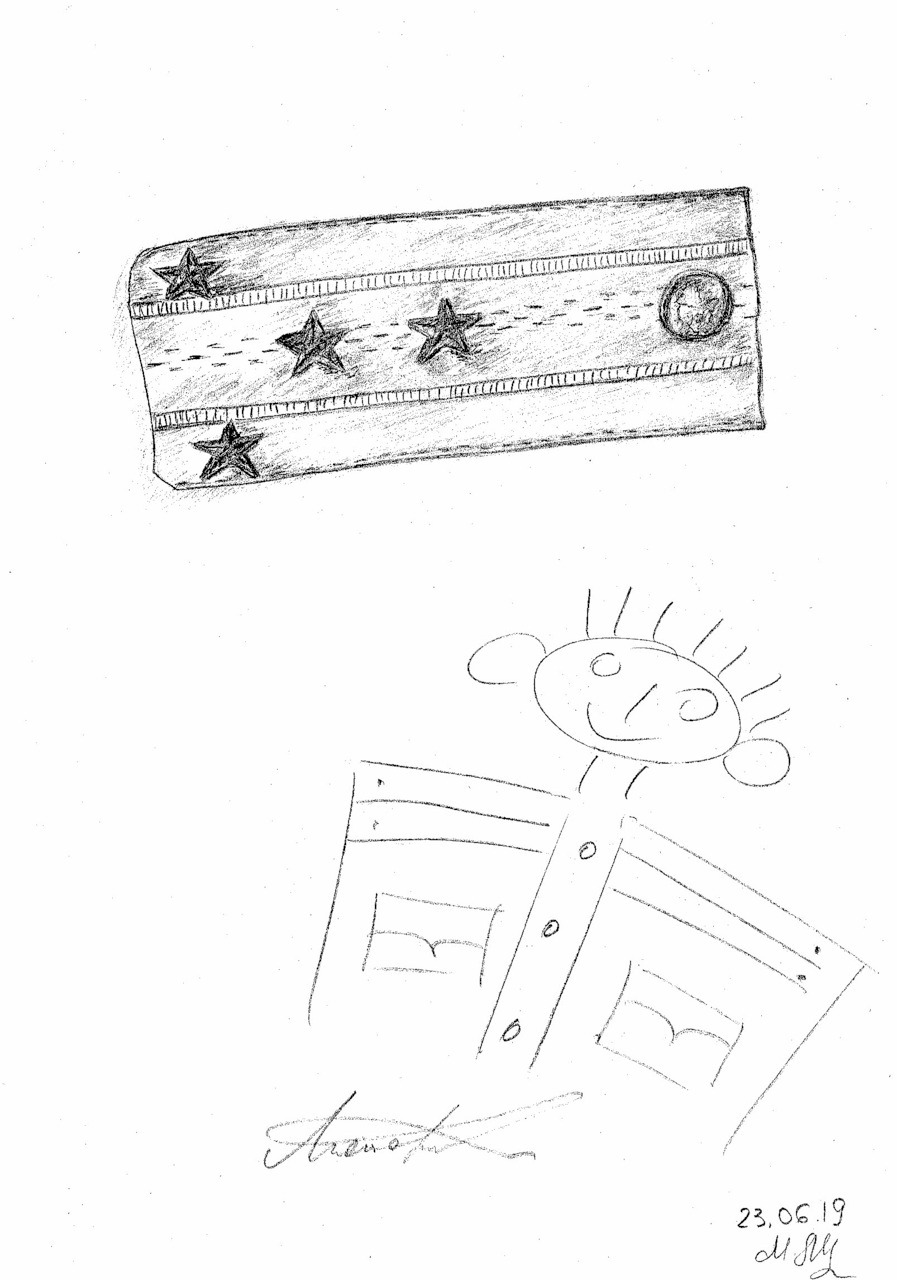
Правда, тогда, уже в середине 90-х, когда подползал поезд «Владивосток — Санкт-Петербург» к Витебскому вокзалу, и нас с братом мучила изжога от лапши с рыбными консервами, ни я, ни мой брат, ни мама, которая шла встречать нас, ничего об этом не знали…
Боюсь, что сейчас кто-то из маститых литераторов, упрекнёт меня в употреблении штампа. Но не могу не использовать его прямо здесь, поскольку именно посредством этого штампа только и могу передать обстановку, что царила в тот незабываемый первый месяц нашего пребывания на абитуре в учебном центре «в полях», а именно — стоял чудесный-расчудесный июль! Лето в самом разгаре. Прекрасные его рассветы и закаты! О, эта, как говорится, макушка лета!.. Обычно, как ни покажется вам это странным (шучу, конечно), именно июль почему-то в Питере самый тёплый месяц. А временами — даже жаркий. Но тогда, в год моего с братом поступления в училище, месяц июль был самым настоящим пеклом: шли игры Доброй Воли. Но пеклом июль был не по этой причине, хотя косвенно — точно по этой. Дело в том, что для достойного проведения этих самых игр, учитывая переменчивость Питерской погоды, облака регулярно расстреливались. И солнце, можно сказать, сутками не заходило в закат.
А мы ещё даже и не курсанты полностью — это та самая абитура, о которой я упомянул ранее, — то есть, абитуриенты мы — это полевые лагеря, с утра до вечера мы под солнцем, самоподготовка к экзаменам, ну, и — само собой — их сдача (или — не — сдача, это как у кого получится), все ещё в гражданке ходят, кто в чём приехал, никого не стригут. А у меня волосы до плеч — хайры, так называемые. Это, как мама уехала, так я и начал их отращивать. И вот отрастил… я в то время под панка косил… вот что значит молодо-зелено и мамы рядом нет! А когда приехал в Питер — сразу в училище поступать пошёл. Так и попёрся, как был. И мало того, что хайры — ещё и полоски всякие на висках выбриты!
И тут, практически на первом построении, командир взвода замечание мне делает: с такой причёской, говорит, ты госкомиссию не пройдёшь и о поступлении можешь сразу забыть. Короче, не поступишь ты, салага.
И я решил, что если побреюсь налысо, то уж тогда точно поступлю, так как замечания по поводу волос не будет. А парикмахеров в полях нет. Поспрашивал, кто постричь сможет — не нашлось никого.
И тогда братишка мой родной на экзекуцию эту решился. Почему экзекуцию? А вы, как думаете, если теплой воды нет — она только из-под земли, природная, холоднющая бьёт и в мойки сразу поступает, — ни машинки для подстрижки, ни ножниц нет. Значит, берётся тупое лезвие, и, смывая этой самой холодной, из-под земли бьющей водичкой, остатки хайр и оставшиеся ростки волос соскребаются прямо с черепушки…
Соскребал так мои хайры братик три часа. Все ребятишки дивиться на такое представление бегали.
…Облысил наконец меня брат. А ни кепки у меня, ни панамки хоть какой завалящей. И, как сказано было выше, в полях мы. С утра до вечера. Под этим самым родным палящим солнышком, под невозможно синим и ясным, из-за расстрелянных облаков, небушком. На открытой природе, красиво говоря… И, заметьте — я лысый! То есть стриженый под НУЛЬ! Конечно, в первый же день черепок до мяса, вот честное пионерское, у меня обгорел — кожа лохмотьями с него начала падать. Обновил кожу. Молодец!
А мы всё бегом. И всё колонной.
И такое у меня стремительное падения веса произошло! — на целых десять килограмм за три недели.
Нет, кормили хорошо. Но всё бегом. Всё колонной. Ну, и волнение, конечно. Экзамены, как никак!
Фу-у-у-у! Даже вспоминать устал!
…И так прошёл первый месяц — месяц абитуры, когда мы стали всего лишь абитуриентами и сдавали экзамены…
В общем, экзамены я сдал. …Об этом можно ещё целую историю записать. Да-а-а… В следующий раз, наверно. А вот как зачисление меня в курсанты произошло — об этом сейчас расскажу…
Так вот — пришёл день госкомиссии. Стоим мы перед палаткой, куда надо зайти абитуриентом, а выйти — курсантом военного училища.
…А можно и не выйти таковым…
Первым братик мой пошёл. Он экзамены, конечно, без осложнений сдал, и даже физподготовку. А я немного оплошал. И с экзаменами, и с подтягиванием на турнике.
Стою, очень волнуюсь — зачисление на волоске висит.
И вот брат первым в ту палатку пошёл. И вышел, конечно, курсантом.
Улыбается и меня ободряет.
Я, внутренне мандражируя, после него вхожу.
Сидят офицеры строгие, а во главе стола — сам начальник училища! — цельный генерал-майор! — глазом в документы и на меня поочерёдно смотрит. Сверяется. Напряжение моё, чувствую, совсем до предела доходит…
И в этот самый момент позади меня раздаётся голос братишки моего — он неслышно, оказывается, вслед за мной вошёл:
— Товарищи начальники, это мой брат родной. Я только что вами зачислен в училище. Прошу о его зачислении тоже. Мы из семьи военного, отец наш боевой офицер, подполковник запаса. Всю свою сознательную жизнь мы с братом по гарнизонам с ним, по полевым выходам (это братик, конечно, приукрашивает, поскольку только в Венгрии в малолетстве нам довелось с батей в полях «повоевать», но звучит — красиво!) — Мы с братом всю свою жизнь мечтали военными стать, дело отца продолжить, чтобы династия наша военная продолжалась, — (это тоже он привирает, но тоже красиво звучит!) — Поэтому прошу вас зачислить его вместе со мной! Мы не подведём!
Я стою, оторопев, но такую благодарность к брату испытываю! Конечно, часто он меня из всяких передряг выручал, но на этот раз!..
И тут слышу…

Короче, зачислили меня. Спасибо брату.
Но и я его не подвёл — все наряды вместо него в училище ходил и ещё много чем помог ему.
Однако творческая натура в нём всё-таки верх взяла…
А я стал военным.
Секретная операция
АРМИЯ 80-х
Лейтенант Строгий сидел рядышком со своей юной супругой на армейской железной койке. Та скрипела при каждом их вздохе и при каждом неловком их движении опасно начинала двигаться на расшатанных металлических ножках.
Обстановку довольно просторной комнаты, кроме бывалой кровати, вынесшей к этому времени на своих пружинах вес множества солдатских тел, составляли покосившийся деревянный шкаф со скрипучими дверцами, перекочевавший сюда по воле офицерских судеб из далёких советских пятидесятых, пара таких же доисторических, колченогих стульев, квадратный обеденный стол с затёртой до блеска предыдущими жильцами столешницей, и главная достопримечательность комнаты — плита, топившаяся дровами, тоже родом из пятидесятых, а может, и сороковых — кирпичная, крытая тяжёлой чугунной пластиной с двумя чугунными же вьюшками, для усиления или уменьшения её жара — она служила и прекрасной плитой для готовки еды, и, одновременно — печкой — обогревателем в зимнее время.
Недавние жених и невеста, а сейчас — полноценные супруги, лейтенант Строгий и его жена Сашенька, — сидели на кровати, как было сказано выше, рядышком, обнявшись и тесно прижавшись друг к другу.
— Сашок, а ведь, пожалуй, операция может быть опасной, — задумчиво произнёс лейтенант Строгий.
Юная Сашенька вздрогнула и подняла испуганный взгляд на супруга.
— Нет-нет, ты не бойся, — сразу поспешил успокоить жену лейтенант, но улыбнувшись всё же, не без снисходительности к такой женской её чувствительности, он, впрочем, ещё крепче ласково прижал её к себе. — Ты же знаешь меня — я выносливый, и силёнок у меня на двоих.
Последнюю фразу Строгий выговорил твёрдо, отбросив задумчивость, и Сашенька почувствовала, как под рубашкой напряглись мышцы рук и спины мужа.
— Конечно, знаю, — вздохнула она. — Но всё равно… побаиваюсь. Сборы-то какие суровые. Вон и чемодан ты велел собрать. Даже сухой паёк велел на три дня положить и щётку свою любимую зубную. Это же не просто так?
Она снова испуганно взмахнула ресницами на Строгого.
— Это я так — на всякий случай, по собственной инициативе. У хорошего офицера всегда под рукой всё необходимое для жизни должно быть.
При этом он тоже поглядел на чемодан, лежавший на стуле, и на его лице промелькнула тень горделивой улыбки.
— Видишь ли, Сашок, кого попало на такую операцию не пошлют. Командир лично вызвал меня к себе и сказал, что тут выдержка нужна сильная и терпение требуется при её выполнении. А главное — тщательность подготовки к ней и самое точное её исполнение. А даётся на всё про всё — полдня! Потому и офицер здесь требуется неординарный: чтобы и сам качествами нужными обладал, и бойцов сумел настроить именно на такое отношению к поставленной задаче, и потребовать с них строго мог.
На лице лейтенанта Строгого вновь мелькнула горделивая улыбка.
— Ну, ты-то можешь. Ты — строгий, — согласно кивнула Сашенька, немного успокаиваясь. Она помолчала, всем телом ощущая приятную надёжность супруга, и робко поглядела на его волевой подбородок.
— Только зачем всё же тебе тревожный чемодан? Если на полдня? Зачем тогда я его собирала?
— Глупая! — опять же — с ласковым превосходством — отозвался Строгий. — Тревожный чемодан у офицера всегда готов должен быть.
Он всё так же снисходительно потрепал супругу по тугой щёчке.
— Как советские пионеры. «Всегда готов!» Помнишь?
Лейтенант Строгий мечтательно улыбнулся, видимо, вспомнив не очень далёкое своё советское детство.
Сашенька на мгновение задумалась, вдыхая родной запах рубашки супруга.
— А пионеры тут при чём?
— Да я просто так, для усиления смысла сказал.
Строгий легко приложился губами к щёчке жены.
— Видишь ли, зайчонок, командир ничего конкретного про операцию не сказал. Думаю — секретная это информация. Завтра на построении с утра, наверняка, скажет… Если по тревоге нынче ночью мой взвод не поднимет, — добавил он многозначительно.
— Так серьёзно всё? — затрепетала всем телом Сашенька и крепко обвила шею супруга нежными, но сейчас вдруг обрётшими силу руками, словно виноградная лоза свою опору, чтобы не упасть и не увянуть раньше времени.
Лейтенант Строгий почувствовал восторг. Так любит! Так переживает! Какую же прекрасную девушку он полюбил в своё время! А какая жена! Всем на зависть! И боязливая — тоже неплохо, слушаться во всём его будет всегда.
Каждый раз лейтенант Строгий испытывал восторг, когда его Сашенька вот так вот боязливо трепетала, а он, мужественный и сильный, мог её успокоить и утешить. Однако сейчас он понял, что слишком уж напугал жену. Ещё, чего доброго, к командиру части побежит просить, чтобы его на такую ответственную операцию не посылали. Бывали такие случаи — сам слышал, старшие офицеры рассказывали.
А Сашенька продолжала трепетать и всё сильнее обвивала его шею руками, теснее прижимаясь к его крепкому плечу.
Лейтенант Строгий решил ободрить жену по-своему — строго.
— А ну! — прекратить панику! Я — военный. Офицер. Приказ должен выполнять. Ты же знала, за кого замуж шла.
Сашенька мгновенно перестала трепетать, но объятия свои не ослабила. Она лишь сменила позу, положив подбородок на плечо мужа, и жарко задышала ему в ухо:
— Поклянись, что в пекло не полезешь! Поклянись, что осторожным будешь! Поклянись, что обо мне ни на минуту не забудешь!
Ох, и приятно было это слышать лейтенанту Строгому!
— Клянусь, зайчонок, клянусь. А теперь — пошли на боковую, как отец мой любил говорить — давай спать ложиться. Поздно уже. Может, и правда тревогу ночью объявят.
Спустя десять минут в окне комнаты лейтенанта Строгого свет погас…
***
Ему не спалось. Самые разные чувства бередили душу молодого лейтенанта.
Сашенька посапывала тихонько у него на груди, а мысли возвращали его на месяц назад, когда он только что выпустился из командного училища и сообщил молодой жене о своём месте службы — отдалённом гарнизоне за Уралом, куда он сам и напросился для большей возможности проявить себя с самого начала — и о том, что положенный отпуск отгуливать не намерен.
Его милая Сашенька не возражала. Она никогда ему не возражала. То ли по причине характера, то ли в силу своего юного возраста — ей за неделю до их свадьбы исполнилось восемнадцать.
Не гулять отпуск Строгий решил по одной простой причине: чем раньше других молодых лейтенантов на место службы прибудешь, тем более козырную должность светит получить. Об этом знали все выпускавшиеся. А кроме всего прочего, это давало возможность проявить себя перед командиром части в качестве прилежного офицера, который на службу рвётся, а не в гулянки какие-то пускается после выпуска.
Так почему бы ему не воспользоваться этим? Кто знает, может, именно ему — отличнику, смелому и решительному характером, как раз и повезёт?
Сейчас он лежал в тиши — хоть и казённой, зато своей личной просторной комнаты с целой настоящей печкой, — на хоть и казарменной железной койке, зато рядом со своей любимой Сашенькой, — и завтра ему доверят секретную спецоперацию, и он выполнит её на «ура».
О чём же ещё можно мечтать молодому лейтенанту, только-только начинающему свой боевой жизненный путь?
Строгий удовлетворённо вздохнул и погладил тёплую руку Сашеньки, покоящуюся у него на груди, ощутив при этом шелковистость её кожи с одновременным приливом нежности к жене.
«Спать! Не будет, видно, тревоги. Значит, с утра всё ясно станет. Не дрейфь, лейтенант Строгий!»
Он мгновенно погрузился в здоровый, по-молодому — крепкий — сон…
Юная Сашенька не слышала, как утром муж потихоньку собрался и ушёл на службу, прихватив тревожный чемодан, так любовно собранный ею накануне.
***
…Возле гарнизонного склада, куда вот-вот должны были подвезти продуктовые пайки, собралась и жужжала как встревоженный улей — по-другому и не скажешь — разноголосая толпа жён комсостава.
Сашенька застенчиво встала в сторонке, прижимая к груди старенькую авоську.
— Александра, а твой-то лейтенант со своим взводом тоже в спецоперации участвует?
Это была соседка по этажу, — единственная, с кем Сашенька успела пока познакомиться по приезде в гарнизон, — жена прапорщика Маркизова — всегда весёлая краснощёкая казачка Тоня.
Жены комсостава у склада почему-то сначала замолчали, а потом разом заулыбались.
— Тоже… участвует, — только и нашлась, что ответить Сашенька, и густо покраснела.
— Поня-я-тно. То-то я гляжу — с тревожным чемоданом с утра на службу шёл! А ножницы-то с собой прихватил?
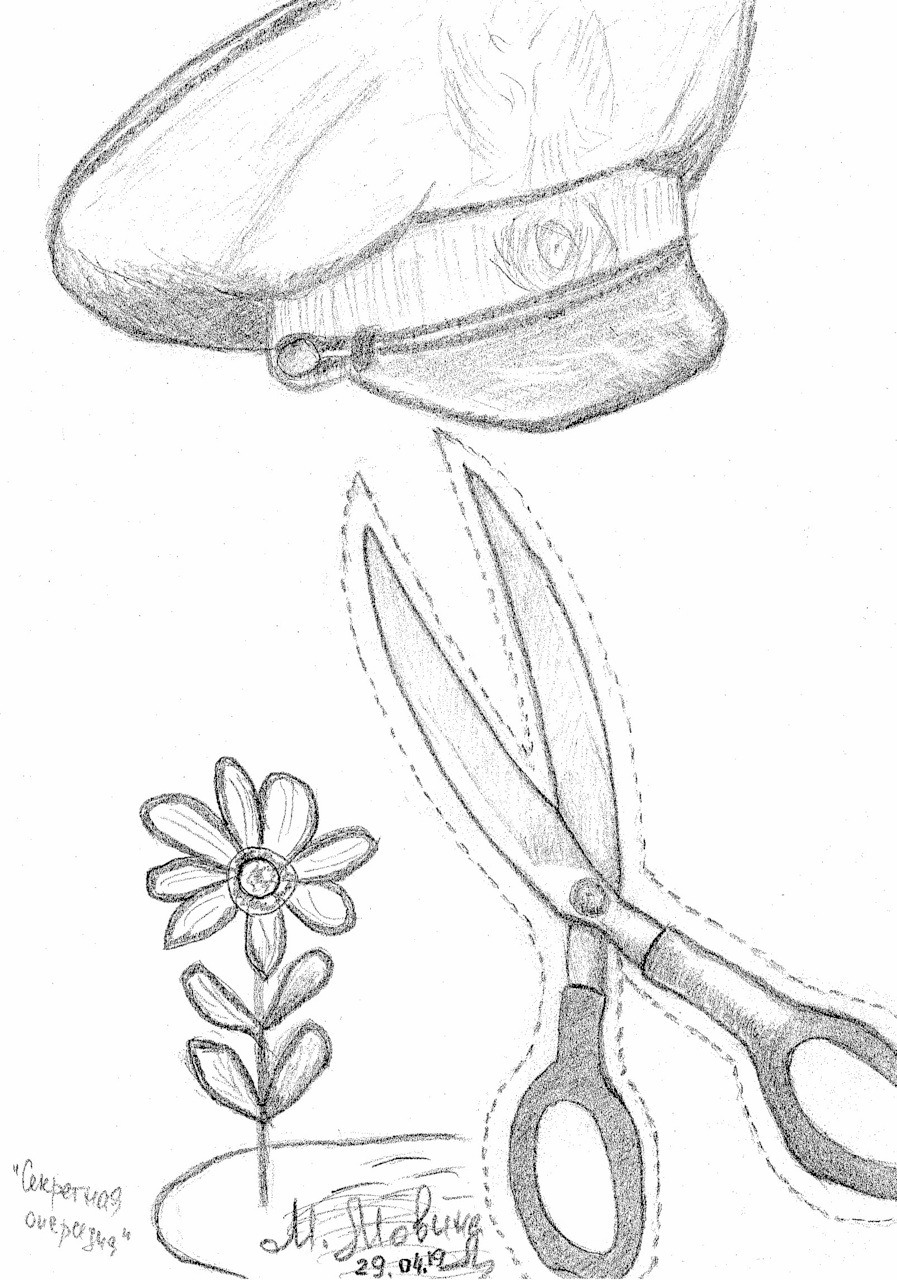
Теперь от склада раздался смех.
Сашенька совсем растерялась и крепче прижала к себе авоську.
— У нас у всех мужья по молодости на эту удочку попадались, — тоже засмеялась Антонина и сквозь смех закончила:
— Операция эта секретная, знаешь, как называется? «Одуванчик»! Ножницы в руки — и газоны стричь!
…И закусили
С какой стороны к этой истории подойти — даже и не знаю. Уж очень грустная она. Особенно для нашего российского менталитета.
Но рассказать её очень хочется. Потому что достаточно поучительной она для нас, русских, должна быть. Особенно сейчас, в наши совсем нелёгкие времена продолжения двадцать первого века.
Какие времена нелёгкие, спросите вы? Да уж такие — нелёгкие. Правда, не разруха у нас, не бедствия стихийные большие, хотя и таких в последние годы немало. Но главная особенность наших времён состоит в том, что невзлюбил нас напрочь западный мир во главе с их заокеанским наставником.
Да в принципе, нам и наплевать на это. Только у многих из нас раньше идея такая была — о братстве и дружбе между всеми народами. А теперь она у всех нас на глазах трещит по швам, и мы вроде как удивляемся этому. Вроде как не ожидали мы такой скаредности и примитивности мышления от западного мира и, к тому же — отсутствия гостеприимства. А кто-то из них, спрашивается, такое гостеприимство нам обещал? И ведь началось-то всё с чего? А с того, что создали мы себе в головах наших такую блажь, как будто они ждут не дождутся, когда мы в их дружную европейскую семью вольёмся, и она, эта семья, что-то вроде того, как бы обнимется с нами и за свой стол европейский, очень даже совсем и не большой, между прочим, усадит. Выпить нам нальют и ещё и закусить поставят. Ага! Раскатаем же, друзья, губу пошире! А ведь раскатали, чего уж теперь шифроваться.
Вот об этом и история моя из середины 80-х, совсем грустная, но теперь, поскольку я был непосредственным участником той истории, в наши новые нелёгкие времена для меня — совершенно понятная. И потому сейчас я живу абсолютно в спокойном состоянии ума и души, и меня ничуть не удивляет такое их западное-американское отношение.
Теперь ближе к теме, то есть — к самой истории.
Произошла эта история, как я уже упомянул, в середине восьмидесятых, совсем незадолго до вывода наших войск из всех западных и не западных границ мира. И случилась она в одном небольшом гарнизоне на юге Венгрии, то есть — по географическому местоположению — в южной группе наших войск.
Осень в тот год золотом по всей Венгрии исходилась! Золото и синева. Золото листьев и синева неба. Такого чистого и ясного неба я потом долго нигде не видел! Может, потому что в Ленинград служить меня вернули. А здесь, не то что осенью — летом солнца у природы не выпросишь! Но зато — Родина. Родной край. Я же в Ленинграде и родился.
Но когда же я, наконец, к истории этой грустной подойду! А понимаете ли, в чём дело? — просто снова загрустить не хочется — вот в этом всё дело.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
